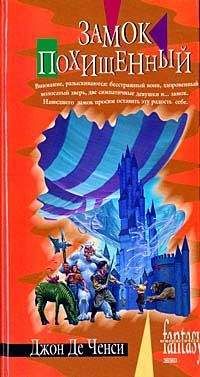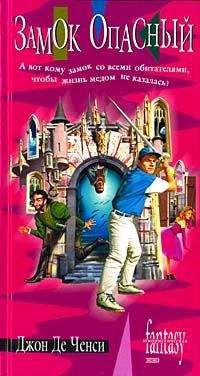Лев Прозоров - Коловрат. Языческая Русь против Батыева нашествия
Встав на ночлег на пологом берегу замерзшей реки и выделив по жребию часовых для наблюдения за пленниками и лошадьми, Эбуген лично отправился вместе с воинами отобрать себе и им развлечение. Нетерпеливый Мунгхаг, схватив за ворот шубы сидевшую с края девушку, рванул ее на себя, запустил пятерню под одежду. Девка завопила, сидевший рядом с ней парень молча вскочил и кинулся на Мунгхага.
– Не убивать! – рявкнул Эбуген, и копье в руках уже занесшего его воина развернулось к пленнику пяткой древка. – Сатмаз, переведи им – пусть не ищут смерти, они нужны нам живыми. Но те, кто попытается, будут сожалеть, что выжили, так же сильно, как мои воины будут жалеть, что не могут их убить!
Кипчак невозмутимо заговорил на языке урусутов, чуть повысив голос, чтоб перекрыть страстные хаканья копейщика и сдавленное рычание избиваемого древком пленника.
Поднялся бородатый жрец, одетый в чёрное платье почти до земли, о чём-то заговорил, волнуясь, указывая на своих, на воинов Эбугена, на небо.
– Про что он говорит, Сатмаз? – спросил десятник.
Сатмаз пожал плечами:
– Просит тебя не трогать их женщин. Говорит, что ты можешь казнить его, если хочешь, той смертью, что пожелаешь, но женщин он просит оставить в покое. Говорит, что Бог вознаградит тебя за это.
Эбуген восхищенно зацокал языком. В свои двадцать три он видел слишком много служителей небес, что быстро забывали о небе и соплеменниках, завидев блеск монгольских сабель. Одни теряли язык, другие норовили выслужиться перед новыми хозяевами, потакая им во всём. Такие, как этот урусут, были большой редкостью, большой. Храбрость достойна была бы вознаграждения, даже не будь ясного приказа чинить чернорясым как можно меньше обид.
– Скажи ему, Сатмаз, пусть не боится. Его дочери не коснется рука простого воина, я беру ее себе.
Хаким тут же проворно подпрыгнул к дрожащей дочери жреца, вырвал ее из рук матери – дородная старуха только охнуть успела – и кинул ее к копытам коня десятника. Хорезмиец едва не поплатился за свою угодливость – старуха, опомнившись, вскочила на ноги и попыталась вцепиться ему в лицо. Два удара смуглого кулака вернули урусутке подобающую пленнице кротость, отшвырнув в объятия мужа – тот обхватил воющую женщину руками и принялся утешать.
– Сатмаз, ты плохо объяснил им? – нахмурился Эбуген. – Их дочь будет моей, только моей, никто иной не коснется ее.
Кипчак пожал плечами:
– Господин десятник, я хорошо знаю их язык. Мой дядя и я – мы покупали рабов-урусов у булгар. Я хорошо объяснил, эти люди просто глупы.
Да, в этом Эбуген уже и сам убедился, втаскивая дочь жреца на седло. Безмозглая девка шипела и пыталась царапаться, как лесная рысь. На счастье, старшие воины давно научили Эбугена удару, усмиряющему пленниц, – ниже узла пояса, чуть выше женского места. Любая становится смирной. Только воняет пролившейся от боли мочой, и иметь ее потом лучше сзади.
Перегнув всхлипывающую девчонку через седло, Эбуген глянул на пленников и увидел такое, что протер рысьи глаза. Земляк Хакима, один из немногих хорезмийцев в войске, что так толком и не выучил кипчакскую речь, бритоголовый бородач Ибрагим, могучий, как девятиголовый великан-людоед Дьельбеген [129] , волок за собой… да нет же, это никак не могло быть девицей! Тут не Саяны, женщины здесь не носят штанов! Ну вот и шапка свалилась, обнажив коротко остриженные светлые волосы.
– Эй, Хаким, твой земляк совсем глуп?! Скажи ему – это не девушка!
Хаким рассмеялся:
– Господин десятник мудростью превосходит Сулеймана ибн Дауда! Аллах и впрямь поступил с Ибрагимом по справедливости, вознаградив мышцами быка за мозги суслика. Но тут дело не в его мозгах, Ибрагим – бачабаз [130] ! – И, видя непонимание в глазах начальника, пояснил, сияя белозубой улыбкой: – Мой земляк, не во гнев господину десятнику, из тех, кому шайтан, да будет он побит камнями, наливает сладость греха не в переднее женское, но в заднее мужское!
Эбуген не враз вник в цветастую речь мусульманина, а когда вник-таки, то даже передернул плечами от омерзения:
– Сээр [131] ! – В его родном племени подобные пристрастия были величайшим нугэлтэй [132] , только черные шаманы могли пробавляться таким безнаказанно. И разве любящие эти дела люди земли Сун и Хорезма не были повергнуты под копыта монгольских коней?! Разве не явило тем Вечное Синее Небо отвращения к их обычаям?
Но, с другой стороны, Ясса не запрещает этого. А теперь, говорят, даже кровь и кость Небесного Воителя, братья Джихангира, не гнушаются этих забав – тот же царевич Хархасун, как шепчутся.
А он обещал воинам теплую ночевку и развлечение.
Так что пусть его…
Дочь жреца всё скулила, долго и протяжно. Вообще говоря, она совсем не подходила под понятия племени Эбугена о красоте – бледная и совсем не толстая, и эти волосы – будто плесень или зимний снег… и удивительно неблагодарная к тому же. Ну или удивительно глупая. Ну что ж – воин Джихангира ставит свой долг выше любых удобств и готов претерпеть любые лишения. Особенно если впереди манит, качаясь хвостами, бунчук тысячника…
Девушек вернули за полночь. Залитых слезами стыда и боли, сжимающихся, как от ожога, при каждом прикосновении. У иных были разбиты лица, другие берегли опухшие вывихнутые руки – чужаки не прощали и намека на строптивость. Подпасок-сирота Тараска норовил отползти от всех и тихо выл, поддерживая руками порванные штаны.
Чужаки, что привели девушек и Тараску, сменили часовых – тех, что ездили вокруг, пока от костров доносились отчаянные девичьи вопли и стоны и смех пришельцев. И сменившиеся тут же подъехали к пленникам, выбирая себе потеху.
Они вернули свою добычу ближе к утру.
Отец Ефим, священник Никольской церкви, утешал односельчан как мог – но чем он мог их утешить? Разве напоминанием о рае, которым вознаграждает Господь претерпевших муки земные… но сейчас, когда едва забылась к утру тяжким неровным сном его собственная дочь, так и не позволив к себе прикоснуться отцу, не взглянув на него, спрятав лицо на груди у матери, попадьи Ненилы, он не мог утешить словами о небесной награде даже себя.
Больнее всего было вспоминать, что когда-то, в дни детства отца Ефима, они пришли на эти земли с Черниговщины, спасаясь от половецких налетов. Пришли только затем, чтоб пережить беду похуже любого налета.
На рассвете их подняли. Плетьми, тычками копейных древков, окриками. Изнасилованные с трудом передвигали ноги, девушек поддерживали подруги, гоня гадкое облегчение от того, что срам и беда стряслись не над ними. Впрочем, об этом им думалось недолго. Иноземцы подъезжали к полону, смеялись, тыкали пальцами, выискивая незнакомые лица. Девушки сжимались под наглыми, голодными взглядами раскосых темных глаз.
Значит, нынче вечером – снова… и тех, кому в ту ночь повезло…
Так и вышло. Снова пришли чужаки, снова начали разбирать девок. И снова чернобородый плешак ухватил за шиворот заверещавшего зайцем в силке Тараску, а поганский воевода закинул в седло поповну Алёнку…
В первую ночь одни плакали, другие молились, третьи бранились сквозь зубы черной бранью. Сейчас молчали – и это молчание казалось отцу Ефиму едва ль не страшнее всего остального, что с ними случилось. Кто-то заснул – а он не мог заснуть. Рядом тихо плакала Ненила, и не было слов утешить жену. Можно было только обнять, прижать к себе руками – слабыми, беспомощными руками, которых недостало защитить собственную дочь!
Когда по звездам выходила полночь, от костров раздался шум – поганые вели, натешившись, девок. Всё повторялось. Опять сменившиеся часовые тащили себе пленниц, на сей раз зацепили не одних девок – и молодую вдову Онфимью. Подальше от жадных глаз тысячников, темников, ханов, забиравших лучшее, оставляя цэрегам делить на десятерых поживших баб, едва вошедших в возраст соплюшек да дряхлых старух, монголы торопились попробовать свежатинки. В кои-то веки не дожидаться своей очереди в хвосте из десяти человек, а брать свежее – и даже выбирать!
Тихо плакали вернувшиеся от костров девки. Только одна молчала – Зимка, дочь кузнеца Радима, того, что, вырвав из забора жердь, одним ударом снес поганского всадника… жаль только, угодил не по седоку, а по безвинной скотине. И жаль, что отбить той жердью басурманские стрелы у него не вышло.
– Отец Ефим… – подала она голос. – И ты, дядя Гервасий…
Священник и староста повернулись к круглолицей румяной толстушке.
– Я там… у басурманина одного… улучила время, – она полезла рукой за пазуху. Вытянула нож без ножен – длинное узкое жало нездешней работы.
– Поганин разомлел… я и умыкнула…
– Умыкнула?! – вскинула залитое слезами и кровью из прокушенной губы лицо ее товарка по несчастью Оринка. – Так чего ж ты?! Я бы…
– Ты бы… – ворчливо огрызнулась Зимка. – И тебя бы. Там бы. А другим нашим – дальше мучаться?!
– Доченька, – жалостливо начал отец Ефим, – да чем же ты нам…