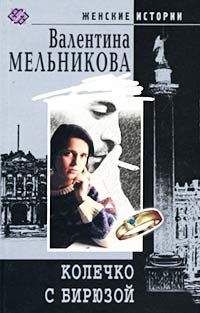Франсуаза Шандернагор - Королевская аллея
Но мне было шестнадцать лет, я не имела ни родни, ни подруг, я стала его женою перед Богом, — делать нечего, пришлось подчиниться. С первого до последнего дня нашего брака я слушалась его во всем, хотя в некоторых отношениях не без внутреннего протеста и гадливости, тем более острой, что, идя к алтарю, знала о супружеских обязанностях лишь по смутным воспоминаниям о повадках карибских дикарей.
Вскоре я начала спрашивать себя, какие причины побудили господина Скаррона вступить в брак. Без сомнения, их было несколько и, притом, самых разных. Во-первых, им двигало благородное чувство сострадания, о коем я уже говорила: он великодушно, не колеблясь, предложил мне взнос в монастырь. Было также два-три более корыстных соображения: поэт уже многие годы вел тяжбу с детьми своего отца от второго брака, которые, взамен наследства, обязались выплачивать ему ежегодную ренту и надули; по уверениям некоторых стряпчих, он мог, женившись, снова претендовать на отцовские деньги. Другим его планом было путешествие в Америку, где он надеялся поправить здоровье, благодаря жаркому климату; эта безрассудная затея побудила его вложить 3000 ливров в экспедицию господина де Руэнвилля и аббата де Мариво, чьи корабли должны были отплыть из Гавра уже в мае или июне нынешнего, 1652 года; злополучный вкладчик рассчитывал, что мое знание островов поможет ему в этом опасном предприятии. И, наконец, он просто-напросто увлекся мною: сперва ему было всего лишь интересно наблюдать, как я превращаюсь из ребенка в женщину, затем его покорили достоинства этой женщины, имевшие, по крайней мере, преимущество молодости перед поблекшими прелестями Селесты д'Арвиль-Палезо, старой служанки, которая вот уже десять лет потакала его фантазиям каноника, за что он и сделал ее монахиней.
На острове Святого Христофора во времена моего детства ходила английская пословица: «Возьми, что хочешь, — сказал Бог, — но заплати!» Я хотела этого брака — слишком хорошей партии для незнатной девушки-бесприданницы, которая, по всей видимости, должна была ограничить свои амбиции положением содержанки или прислуги; однако, вначале весьма дорого заплатила за те преимущества, коих удостоилась много позже. И цена эта была настолько высока, что я не чувствовала себя в большом долгу перед господином Скарроном. Женившись на мне, он совершил благородный поступок в глазах света, я же ответила на него моею покорностью любителю тайных услад и моими заботами — больному.
А больной, в самом деле, заставлял меня бодрствовать ночами не меньше, чем какой-нибудь пылкий муж — свою жену. Не знаю, от какой болезни страдал господин Скаррон, какой грех искупал он своими терзаниями, но могу с уверенностью сказать, что бедный калека еще при жизни познал все муки ада. Согнутый в три погибели, с коленями, прижатыми к груди, с головой, наклоненной к правому плечу, с парализованными до самых кистей руками, он проводил дни в деревянном кресле-ящике. Когда он хотел есть или писать, в ручки этого кресла вставлялся небольшой столик-пюпитр. По ночам он даже не мог сам повернуться с боку на бок. К этим неудобствам добавлялись страшные боли, которые днем он ухитрялся скрывать за шутками и смехом, ночью же они заставляли его кричать во все горло, лишая сна. Он принимал большие дозы опиума, но это не избавляло его от мучений. Я помогала слуге Манжену поднимать, мыть, одевать и укладывать больного. Я сама приготовляла ему лекарства и проводила большую часть ночи, сидя у постели на стуле и стараясь утешить и успокоить его. В минуты приступов он иногда впадал в злобное раздражение и сам признавался после, что «уныл, как государственный траур» и «печален, как проклятый грешник»; однако эти стоны и ругательства я все же предпочитала извращенной игривости тех ночей, когда боль отпускала его. Впрочем, я искренне жалела несчастного страдальца, и он был благодарен мне за терпение и преданность. А поскольку я, как и прежде, восхищалась его умом и образованностью и ценила блестящее общество, нас окружавшее, то скоро привыкла к моему супругу, который, не имея возможности стать мне мужем, стал кем-то вроде отца, о чем сперва предпочитал помалкивать; однако, если и есть на свете мудрые люди, готовые молча сносить судьбу, посланную им Богом, то господин Скаррон был отнюдь не из их числа и вскоре доставил мне немало огорчений — скорее своими речами, нежели поступками.
С утра до вечера желтый салон особняка де Труа был полон гостей. К писателям и поэтам добавились теперь военные и политики. В ту пору общество находилось в оппозиции к Королю и кардиналу Мазарини. Жажда бунта овладела умами, возмущение кружило головы.
Короля изгнали из Парижа; Тюренн осаждал столицу, где укрылся принц Конде со своими фрондерами[15] и испанцами. В Бастилии палили из пушек, у городских ворот завязывались кровавые схватки; невозможно было выйти на улицу, чтобы вас тут же не остановил какой-нибудь андалузский бандит или немецкий рейтар. Из предместий потянулись в Париж бедные крестьяне, спасаясь от грабителей, разорявших их дома, и бросая на произвол судьбы умирающую с голоду скотину. А когда подыхал скот, гибли и люди; дети сходили в могилу вместе с матерями. Я видела на Новом мосту мертвую женщину и троих малолетних детей, младший из которых еще сосал ее грудь. Да и парижане в это время питались более чем скудно, так как припасов в столицу не доставляли; зато они много пили и еще больше спорили.
Господин Скаррон находился в самом центре любителей бурных дискуссий: он только что отдал на суд публики свою знаменитую «Мазаринаду»; последствия оказались для него — и не без причины — весьма печальными, но в настоящий момент она составляла источник обогащения для голландских издателей[16] и триумф автора. Читатели рвали друг у друга из рук эти стихи, более неприличные, чем остроумные; сказать, что кардинала в них облили помоями, значит ничего не сказать:
Козел вонюч, козел смердящ,
Козел и мерзок и ледащ,
Козел космат, козел зобат,
Козел хитер и вороват,
Козел — бесстыжие глаза,
Ему что мальчик, что коза,
Козел и этой, и тому,
И всей стране забьет в корму.
Беги его, богат и нищ! —
Козел козлее всех козлищ…
Продолжение было в том же духе, ничуть не лучше, однако сатира эта восхищала братьев Гонди, семейство Конде и многих других, менее важных заговорщиков, которые отсиживались в особняке де Труа. Сей скандальный успех Поля Скаррона, в соединении с триумфом его последней театральной пьесы «Дон Яфет Армянский», решительно сделал автора героем дня.
Теперь к этим пикантным происшествиям добавилось его венчание, и слава Скаррона засияла вовсе ослепительно. Весь Париж обсуждал наш брак наравне с последней его комедией: ему дивились, его высмеивали, им восхищались. И в тавернах и в салонах люди бились об заклад, — способен ли господин Скаррон быть мужем и отцом? Лорэ в своей газете уверенно объявлял о рождении скарронова наследника в самые ближайшие месяцы, чуть ли не в июне, заверяя читателей, что «сей автор, кудесник смеха, невзирая на тяжкий недуг, способен к продолжению рода; его собственный друг клянется, что жена господина Скаррона беременна вот уже три или четыре месяца, если не более, — вот и толкуйте после этого о параличе!» Королева, напротив, отнеслась к новости весьма скептически, заметив, что жена в доме Скаррона — самый бесполезный предмет обстановки. И, наконец, Жиль Буало, сей низкопробный писака, снискал себе грязный успех, заявив прямо мне в лицо, что мой муж ни в чем на меня не походит и что «всем давно известно, что у нас с ним нет ничего общего».
Скаррон быстро понял, что эта сомнительная слава может принести ему дополнительную известность; теперь его стремились увидеть и как модного писателя и как человека, интересного своим уродством и своим браком; он и сам похвалялся, что люди сбегаются поглазеть на него, точно на ярмарочного льва или слона. Смекнув, какую пользу можно извлечь из своего странного супружества, он сам принялся острить по этому поводу. Начал он с шутливых стишков о «посте», на который обрек меня. Дальше больше: он дерзнул представить на публике, в моем присутствии, весьма пикантную сценку, где ему подавал реплики наш лакей Манжен. «Премьеру» сей комедии он устроил в честь своего друга Сегре. Однажды тот сказал ему.
— Месье, вы осчастливили свою супругу, женившись на ней, но этого, увы, недостаточно. Вам следовало бы сделать ей ребенка. Как вам кажется, способны вы на это?
— Ах, вы желаете мне еще и такого счастья? — возразил Скаррон. — Но у меня есть верный слуга Манжен, он-то и выполнит за меня сию повинность.
Итак, он вызывал Манжена и спрашивал:
— Манжен, согласен ли ты сделать ребенка моей жене?
— Почему бы и нет, месье! — отвечал тот на каждом представлении. — С Божьего и вашего соизволения!