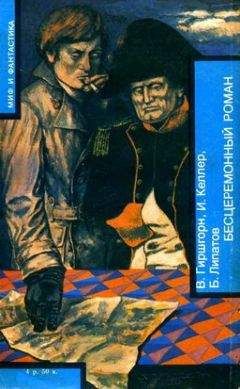Владимир Лебедев - За святую обитель
Ныло сердце, томилась казачья душа. "Грех-то какой! — молнией проносилось в его смятенном уме. — На святыню православную поднял я свою саблю разбойничью! Родительский завет забыл!"
Туманятся глаза, и в том тумане из ночного мрака выступает чей-то знакомый лик: седые брови грозно сдвинулись над очами соколиными, горящими гневным пламенем… Под седыми усами старческие, бескровные губы шепчут укоры, проклятием грозят… "Ужли это батька из гроба вышел — проклясть меня, окаянного, за грех мой?" — И леденеет от ужаса седоусый Епи-фанец… А батька-то все грознее очами сверкает; вот распахнул он костлявой рукою могильный саван на широкой груди — видит Епифанец: в батькином сердце глубокая кровавая язва, а в той язве дрожит татарская оперенная стрела, словно сейчас из лука пущена… И слышит Епифанец глухой, замогильный голос своего батьки: "Окаянный ты, окаянный! Опозорил ты свою честь казацкую — побратался с басурманами-нехристями. Пришел ты боем на святую обитель, поднял руку на угодника Божия… Гореть тебе в огне вечном! Не даешь ты, грешник, старым костям батькиным на покое лежать. Вновь пронзил ты мне сердце мертвое кровавой стрелою… Берегись, окаянный, огня вечного!"
— Не кляни меня, батька! — вскрикнул Епифанец и очнулся… Неужели то сон был? Гудит буйный ветер вокруг шатра, глухо и грозно воет, словно вторит страшным батькиным словам. Все трепещется синий огонек в чашке, все ползут тени по ткани.
"Что это?! Кто там?!" — содрогнулся всем телом Епифанец, впился в угол горящим взором… Из глубины шатра подвигается к нему, грозно подняв руку, неведомый старец в длинной, черной монашеской мантии.
Белее снега лицо ночного гостя — страшит, пепелит атамана огненными очами. Над клобуком старца сияние видится…
Вскочил Епифанец, дико вскрикнул и упал ничком.
— Что ты, атаман? — бросился к нему разбуженный Ма- тюшка… Не сразу поднялся старый казак, а как встал, было лицо его словно другое: осунулось, потемнело; поспешно начал атаман сбираться в путь-дорогу.
— Буди казаков, Матюшка! — велел он молодцу.
— Куда, атаман? Ведь ночь на дворе!
— Вон из стана ляшского! Полно нам обитель святую воевать; полно нам губить душу христианскую! Созывай на совет казачий круг… Было мне сей ночью видение… Надо от греха скорей бежать!
Обрадовался Матюшка, да и заробел сильно, глядя на старого Епифанца: словно вырос атаман, сверкали под седыми бровями глаза его, голос — словно гром гремел.
Пошла тревога по казачьему стану. Утомленные дневным трудом, без просыпу спали донские удальцы. Но привыкли они каждого слова атаманского слушаться: повылезли из-под бараньих шкур да кожухов, начали к шатру собираться говорливой толпою.
Зажгли перед шатром осмоленные сучья, и в красном пламени их, в полном воинском вооружении, вышел к своим верным казакам Епифанец…
— Удалое казачество! — зычно начал он. — Не буду более над вами атаманствовать, вот булава моя — возьмите! Не к лицу мне, старику, честную саблю свою православной кровью пятнать… Оставайся здесь с ляхами кто хочет, воюй-бери обитель святую. Я ж вам отныне в том деле не пособник! Да и вас-то жалко мне, удалые казаченьки: великий грех вы на душу берете, и великий ответ вам держать придется за могилою… Неспроста, братцы, старый атаман говорит… Было видение мне середь ночи, угодника Божия узрел я, грешник окаянный… Грозил мне старец святой за мой грех, за братанье с ляхами-басурманами… Простите, казаченьки!
Зашумели, заговорили разом казаки. До сердца проникла им речь атамана; давно уж не по душе было донцам на святыню православную идти.
— Вестимо, грех!
— Ну их, этих ляхов нечестивых!
— Все с тобой уйдем, атаман; веди хоть сейчас! Поглядел Епифанец кругом, видит — нет противников…
Прояснело лицо старого атамана…
— На коней, казачество! В путь-дороженьку!
— Стойте, казаки, — молвил Матюшка Дедилов, выступив вперед. — А я что еще удумал: обители святой услужить, беду упредить великую… Ведь ляхи-то под стены, под угольную башню подкоп ведут; того и гляди громыхнут всю обитель…
— Что ж ты удумал? — перебил племянника атаман.
— А прокрадусь к инокам, да укажу им подкоп-то вражий… Небось, не возьмут тогда ляхи обители.
Обнял старый атаман Матюшку горячо, словно сына родного.
— Спаси тебя Бог! Послужи, племяш, святому Сергию за нас всех, старых грешников-разбойников. Искупи, коли придется, и муками грех наш великий…
Молча простился молодой казак со всеми; бледно, но твердо и спокойно было лицо его…
Покинув шатры и громадную рухлядь, еще до свету выступили донские казаки из ляшского стана. Хотела было венгерская ночная стража задержать их отряд, да смяли венгерцев молодцы одним натиском и помчались на волю-волюшку.
Невеселые вести понесли венгерские гонцы пану Петру Сапеге да пану Лисовскому.
Милость Божия
Удалой сотник Семен Павлов стоял на страже за выступом монастырской стены над Красными воротами. Прозяб Семен в непогожую ноябрьскую ночь, руки у него оледенели, держа тяжелую пищаль. В ляшском стане царила тишина, монастырь тоже спал, покоясь после ожесточенной дневной пальбы… Перекликнется Семен с соседними стражами и опять молчит, глядит во тьму ночную, думает о тяжелых временах… Давно ль жил он себе мирно да тихо в послушниках обительских, не чаял, не гадал, что из него воин выйдет… А вдруг и пришлось за пищаль взяться: палить что твой стрелец научился, полюбился воеводе князю Долгорукому за удаль да ловкость — в сотники попал. Усмехнулся Семен в темноте… Дивно ему на себя стало, что не робеет он в бою, словно испытанный воин, что не щемит его сердце при мысли о гибели от меча иль пули… Вон теперь все о подкопе говорят, — ну что ж, пускай взрывают ляхи хоть всю стену, недаром он крест святому Сергию целовал!
Вдруг поднял сотник голову: в стане вражьем раздался глухой гул голосов; далеко за турами огни засверкали… "Что за притча? Не на приступ ли сбираются ляхи?" — Окликнул Семен товарищей: ухо-де востро держите… Но все тише и тише становился шум, все реже и реже огни; наконец, опять полная тишина настала. Но не успокоился потревоженный сотник, еще чутче прислушиваться, еще зорче приглядываться стал. И вот донесся до него снизу осторожный шелест чьих-то одиноких шагов… "Должно, разведчик передовой!" — подумал Семен, приложился, да наугад со стены вниз из пищали пальнул. Громыхнул выстрел, огонь сверкнул, снизу стон послышался.
Зажгли стражи меж зубцами кучу сухих веток, осветили вал приворотный, — нет никаких полков ляшских, лишь у вала лежит какой-то человек, тяжко стонет, о чем-то молит. Слышно:
— Спасите, православные!
— Давай веревки, ребята. Спускай меня! — крикнул сотник и с помощью других стражей скоро очутился он возле раненого.
— Убили вы меня, братцы! — простонал неведомый человек. — А я вам добрую весточку принес…
Видит сотник: по одежде — казак, пришел от ляхов, и вправду может, что-нибудь про вражьи замыслы откроет. Кликнул товарищей; связали две-три веревки, втащили раненого на стену.
— Ох, спешите, братцы! — хрипел казак. — Воеводу позовите да из иноков кого… Умираю я… пусть мне грехи отпустят, чтобы не мучиться мне в огне адском…
Наскоро собравшиеся воевода Долгорукий и отец архимандрит поспешили на стену, еще в живых казака застали. Тяжко дышал умирающий, из уст его вырывались отрывочные, хриплые слова…
— Отпусти, отче, тяжелый грех мой, что пришел я с нехристями обитель воевать… Из донских казаков я… Нас атаман Епифанец привел… Да только этой ночью бросили все донцы ляшский стан: убоялись греха великого, гнева угодника Божия…
При дрожащем свете горящих сучьев видно было, как просветлели лица бойцов при доброй вести.
— А я, отче, — с усилием молвил дальше Матюшка, — не ушел с другими казаками: мыслил обитель о подкопе ляшском оповестить…
Встрепенулись все; посыпались на раненого вопросы…
— Все открою, братцы; только не дайте умереть без покаяния… Отпустятся ль мне грехи мои?!
— Не кручинься, чадо мое, сам буду за твою душу денно и нощно молиться Богу, — сказал отец Иоасаф.
— Ведут ляхи подкоп к Угольной башне… Почитай все готово, скоро подпалить хотят… Начало берет ляшский ход подземный в Мишутинском овраге, в середнем осиннике… Изловчитесь бочки с зельем достать; до конца еще их ляхи не докатили. Подпалите — весь подкоп рухнет… А стража там невелика стоит…
Передохнул казак и глухо крикнул:
— Отец честной, молитву читай! Смерть идет! Ой, холодно! Подошел к Матюшке Дедилову отец Иоасаф — принять его
душу грешную; опустился на колени около донского разбойника, положившего живот за обитель.
Воевода же с другими воинами беседу вел, как теперь быть, когда вылазку делать…
Помаленьку рассветать стало… Обрисовались в серой полумгле зубцы, башни. Бледнее горели трескучие сучья на стене монастырской.