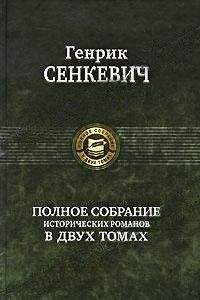Генрик Сенкевич - Огнем и мечом (пер.Л. де-Вальден)
Один только маленький Володыевский сокрушался об этом, а когда Скшетуский хотел утешить его, он сказал ему:
— Хорошо тебе говорить, когда тебе стоит только захотеть, и ты можешь жениться на Анусе Она тут все время вспоминала о тебе; сначала я думал, что она хочет возбудить этим ревность в Быховце, но вижу, что она совсем не думает о нем, а к тебе питает более нежное чувство.
— Что мне Ануся! Можешь вернуться к ней, если хочешь, — не возражаю, — но о княжне Анне перестань и думать; ведь это все равно что шапкой накрыть в гнезде феникса.
— Я знаю, что для меня она феникс, и потому-то мне, наверное, придется умереть с горя.
— Останешься жив и снова сейчас же влюбишься; только на этот раз не влюбляйся в княжну Варвару, потому что опять какой-нибудь сын воеводы уведет ее у тебя из-под носа.
— Разве сердце слуга, которому можно приказывать! Можно ли запретить глазам смотреть на такое чудное существо, как княжна Варвара, один вид которой мог бы укротить дикого зверя.
— Вот тебе на! — воскликнул Скшетуский. — Вижу уже, что ты утешишься и без моей помощи, но повторяю: вернись к Анусе, а с моей стороны ты не будешь иметь ни малейшего препятствия.
Ануся, однако, совсем не думала о Володыевском. Ее раздражало, интересовало и сердило равнодушие Скшетуского, который, вернувшись после такого долгого отсутствия, даже не взглянул на нее. Когда по вечерам князь со своими приближенными офицерами и придворными приходил в гостиную княгини, чтобы позабавиться разговорами, Ануся (она была маленького роста, а княгиня высокого) выглядывала из-за плеча своей госпожи и впивалась черными глазками в лицо поручика, желая разгадать его. Но глаза Скшетуского, так же как и мысли его, блуждали в другом месте, а когда случайно взор его падал на нее, то был таким задумчивым и стеклянным, как будто бы он никогда не смотрел на нее и не пел ей:
"Вы, как турецкая орда,
Берете в плен сердца…"
"Что с ним случилось?" — спрашивала себя избалованная любимица всего двора и, топнув маленькой ножкой, решила узнать, в чем дело. Она, правда, не любила Скшетуского, но, привыкнув к ухаживанию, не могла допустить, чтобы на нее не обращали внимания, и с досады уже сама была готова влюбиться в дерзкого.
Однажды она бежала с мотками ниток для княгини и встретила Скшетуского, выходившего из соседней спальни князя. Налетев на него, как буря, она почти столкнулась с ним грудью и, отскочив, сказала:
— Ах, как я испугалась! Здравствуйте!
— Здравствуйте. Разве я уж такое чудовище, что даже испугал вас?
Девушка стояла с потупленными глазками, перебирая пальцами незанятой руки концы своих кос, переступала с ножки на ножку и, как бы смущенная, ответила с улыбкой:
— Нет! Вовсе нет!
При этом она быстро взглянула на поручика и снова опустила глаза.
— Вы сердитесь на меня?
— Я? Разве вам не все равно. Сержусь я или нет?
— Конечно, все равно! Было бы о чем беспокоиться. Может быть, вы думаете, что я сейчас заплачу? Быховец гораздо вежливее вас…
— Если так, то мне остается только уступить ему место и удалиться с ваших глаз.
— А разве я держу вас?
Сказав это, Ануся загородила ему дорогу.
— Так вы вернулись из Крыма? — спросила она.
— Да, из Крыма.
— А что вы привезли оттуда?
— Привез Подбипенту. Вы ведь уже видели его? Это очень милый кавалер.
— Разумеется, лучше вас. А зачем он приехал сюда?
— Чтобы вам было на ком пробовать свою силу. Но советую вам хорошо взяться за это деле, потому что я знаю один секрет, который делает его непобедимым… и даже вам не справиться с ним.
— Отчего же он непобедим?
— Оттого, что не может жениться.
— А мне-то какое дело? Отчего он не может жениться?
Скшетуский наклонился к самому уху молодой девушки, но сказал громко и внятно:
— Потому что дал обет целомудрия.
— Глупо! — быстро воскликнула Ануся и в ту же минуту упорхнула, как испуганная птичка.
Однако в тот же вечер она в первый раз внимательно посмотрела на Подбипенту. Гостей в этот день была масса, так как князь давал прощальный пир в честь Бодзынского. Наш литвин, одетый в белый атласный жупан и темно-синий бархатный контуш, имел очень представительный вид, тем более что сбоку у него вместо его огромного меча висела кривая сабля в золоченых ножнах
Глазки Ануси, назло Скшетускому, начали стрелять в Подбипенту. Поручик, однако, и не заметил бы этого, если б не Володыевский, который, толкнув Скшетуского локтем, сказал:
— Ну пускай я попаду в плен, если только Ануся не желает приглянуться этой литовской жерди!
— Скажи это ему самому.
— Разумеется, скажу. Славная выйдет из них парочка.
— Он может носить ее вместо пуговицы на жупане. Между ними именно такая пропорция.
— Или вместо султана на шапке.
Володыевский подошел к литвину.
— Вы только недавно приехали сюда, а уж видно, что вы франт не последней руки.
— Почему же это, братец?
— Да потому, что успели вскружить голову самой хорошенькой девушке при дворе.
— Голубчик! — воскликнул Подбипента, складывая руки. — Что вы говорите!
— Посмотрите-ка на Анусю Барзобогатую, в которую мы тут все влюблены, как она сегодня стреляет в вас глазками. Только берегитесь, чтобы она не провела и вас, как провела нас всех
Сказав это, Володыевский повернулся и отошел, оставив Подбипенту в недоумении.
Последний даже не посмел сразу посмотреть в сторону Ануси и только потом, как бы случайно, бросил на нее взгляд — и задрожал. Из-за плеча княгини Гризельды на него действительно упорно смотрели любопытные огненные глазки. "Сгинь, сатана", — подумал литвин и, покраснев, как рак, убежал в другой конец залы.
Однако искушение было слишком велико. Этот бесенок, выглядывающий из-за плеча княгини, был так привлекателен, эти глазки так ярко горели, что Подбипенту так и тянуло еще раз взглянуть на них. Но тут он вспомнил свой обет, перед глазами его встал предок, Стовейко Подбипента, и три головы, и страх овладел им. Он перекрестился и в этот вечер уже больше не взглянул на Анусю.
На следующий день утром он пришел к Скшетускому.
— А что, господин поручик, скоро мы двинемся в поход? Что слышно о войне?
— Приспичило вам! Потерпите, пока не поступите в полк.
Подбипента не был еще записан на место покойного Закржевского. Он должен был ждать этого до первого апреля Но он действительно торопился и продолжал:
— А князь ничего не говорил об этом?
— Нет. Король до самой смерти не перестанет думать о войне, но Польша не хочет ее.
— А в Чигорине говорили, что угрожает казацкий бунт?
— Видно, уж очень надоел вам обет! Что касается бунта, то знайте, что до весны его не будет, потому что хоть зима и теплая, но все-таки — зима. Теперь только пятнадцатое февраля, и каждый день еще могут настать морозы, а казак ведь не двинется в поле, пока нельзя окопаться, потому что казаки отлично дерутся из-за окопов, но в открытом поле совсем не умеют действовать.
— Значит, и казаков надо ждать?
— Примите во внимание также и то, что если бы даже вам и удалось во время казацкого бунта снять три головы, то еще неизвестно, освободитесь ли вы от своего обета, потому что крестоносцы и турки — это одно, а свои — другое; ведь это, так сказать, дети одной матери.
— О, Боже великий! Вот вбили вы мне сук в голову. Вот горе! Пусть ксендз Муховецкий разрешит мои сомнения, а то я не буду иметь ни минуты покоя.
— Наверное, разрешит: он человек ученый и набожный, но, думаю, он скажет то же самое. Ведь это — гражданская, братская война.
— А если бы на помощь бунтовщикам явилось иноземное войско?
— Тогда другое дело. А теперь могу посоветовать только одно: ждать и быть терпеливее.
Однако Скшетуский умел только советовать, но сам не умел следовать своему совету. Его все больше и больше охватывала тоска; ему надоели и придворные празднества и лица, на которые он еще недавно смотрел с таким удовольствием.
Наконец Бодзынский, Ляссота и Розван Урсу уехали, и после их отъезда настало полное затишье.
Жизнь потекла однообразно. Князь занялся размежевыванием своих огромных владений и каждое утро запирался с комиссарами, приезжавшими со всей Руси и из княжества Сандомирского, так что редко происходили даже военные учения. Шумные офицерские пиры, на которых рассуждали о будущих войнах, необыкновенно утомляли Скшетуского, и он часто с ружьем уходил на Солоницу, где некогда Жолкевский так страшно разгромил Наливайку, Лободу и Кремского. Следы этой битвы изгладились из людской памяти и на месте самого побоища. Иногда только из земли показывались побелевшие кости, да за рекой возвышалась насыпь, из-за которой так отчаянно защищались запорожцы Лободы и вольница Наливайки. Но уже и насыпь начала зарастать густым кустарником.