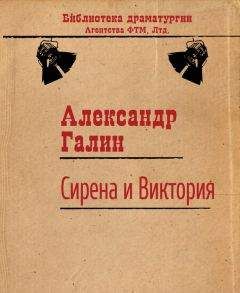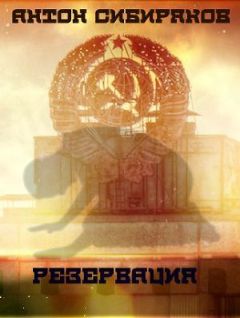Наталья Павлищева - Королева Виктория. Женщина-эпоха
– Пить…
Почему они не хотят погасить камин? Почему так душно в спальне? Не нужно столько одеял…. Хотя нет, нужно, потому что стало вдруг холодно. Может, это потому что открыли окно? Неужели на улице снег и мороз? Не может быть, должно быть довольно тепло.
И снова забытье, в которое пробиваются вязкие звуки и чьи-то резкие голоса.
– Мама… пить…
Губы смачивает влага, с ней что-то делают, кажется, переодевают… Жарко, снова немыслимо жарко… волосы промокли от пота и слиплись, губы из-за жара потрескались…
И вдруг…
– Ты должна вот это подписать! Открой глаза и поставь подпись.
Это голос Конроя. Чего ему надо? Ей подпись? Зачем, какую подпись?
И сразу голос матери:
– Джон, не стоит сейчас, она совсем слаба и больна.
– Именно сейчас, когда очнется, ни за что не подпишет. Не мешай!
И у Виктории сквозь туман и горячечный жар прорывается сознание: подписывать нельзя, потому что, очнувшись, она ни за что не подпишет. Когда Конрой снова вкладывает в руку перо, девушка отталкивает его:
– Нет… пить…
– Подпиши, и я дам тебе пить.
– Джон, это жестоко! Девочка больна!
– Не мешай! – И снова к едва живой принцессе: – Подписывай, не тяни время.
– Не… под… пишу… нет…
Она уже не просила пить, знала, что пока не подпишет, не дадут, но знала и другое – подписывать нельзя, ни за что нельзя.
Сколько это продолжалось, неизвестно, Виктория то впадала в забытье, то снова чуть приходила в себя, но ее пальцы были с силой сжаты в кулаки для того, чтобы в них снова не вложили перо.
Открыла глаза ночью, вокруг темно, только на столике, придвинутом к кровати, крохотная свеча и чашка. Осторожно оглянувшись и убедившись, что мать на своей кровати спит, Виктория протянула руку к чашке. Вода… какая же она вкусная! Два глотка, больше нельзя…
Стараясь не звякнуть, поставила чашку на место и притихла, свернувшись калачиком. Голова все еще невыносимо болела, а все тело горело, но было много легче. Немного погодя она снова впала в полузабытье и, кажется, забыла сжать кулаки…
Очнулась принцесса нескоро, с трудом вспомнила требование Конроя и в ужасе замерла. Конроя и матери нет рядом, сидела только Лецен. Неужели она все же подписала?! Что это была за бумага?
– Луиза… – шепот едва слышен, но показалось, что кричит.
Баронесса очнулась от полудремы, в которой находилась, метнулась к своей любимице:
– Очнулась, слава богу!
– Я подписала?
– Нет, я не знаю, что требовали подписать, но сэр Конрой вышел очень злой.
– Пить…
– Сейчас, сейчас…
А Виктория вдруг поняла, что не должна дать понять, что вспомнила эти попытки заставить ее подписать какую-то бумагу.
– Никому не говори, что я вспомнила…
– Конечно, конечно…
Луиза Лецен не выдаст, она верная… Но голова все еще горела, и горло неимоверно болело тоже.
Виктория долго лежала, глядя в темноту и размышляя над своей жизнью. Чего хотел от нее Конрой? Наверняка, какую-нибудь доверенность на ведение дел, как сделала тетушка София и сама герцогиня Кентская, в результате попав в полную зависимость от сэра Джона. Нет, она никогда не даст такой доверенности, и очень хорошо, что ничего не подписала.
Сэр Джон Конрой… Дядя Леопольд никогда не скрывал своей к нему неприязни, но ни мама, ни сама Виктория ему не верили. Виктория давно не любила Конроя, но не настолько, чтобы видеть в нем врага, скорее это был неприятный наставник, слишком жесткий и требовательный. Теперь девушка поняла, что не жесткий, а жестокий.
Жизнь в Кенсингтонском дворце давно превратилась в ад, где все ограничено, все под запретом. Виктория вдруг отчетливо поняла, что Джон Конрой, давным-давно подчинивший себе герцогиню Кентскую, пытался с ее помощью так же подчинить и дочь. Внутри у девушки росло возмущение: какое право имеет Конрой так распоряжаться ее жизнью?! Если маме нравится, пусть подчиняется, но зачем же делать это с Викторией?
И вдруг она отчетливо поняла: если скажет хоть слово против, Джон Конрой просто уничтожит ее! Стало страшно, Конрой уже убрал дорогих людей из ее окружения, осталась одна дорогая Лецен, но и той не дают никакого покоя, постоянно унижая и не ставя ни во что, точно она прислуга, а не баронесса. Вокруг только неприятные ей люди, кроме мамы и Лецен, остальные приведены Конроем, это его жена и две дочери, особенно привязчива Виктора, которую принцесса просто не переносила. Даже умница Флора Гастингс оказалась слишком несдержанна на язык и наговорила гадостей о Лецен, мол, та жует тмин для того, чтобы скрыть запах спиртного, в результате баронесса очень обиделась. За свою любимую наставницу обиделась и Виктория и попросту прекратила общаться с Флорой.
Герцогиня в ссоре с королем и королевой, потому во дворце не появляется, а одну Викторию не отпускают, потому с ней рядом и вовсе нежелательный сэр Конрой. Быть под постоянным приглядом этого человека совсем трудно, с мамой и то легче.
Тихие слезы катились по щекам Виктории, жизнь будущей королевы могла бы быть легкой и радостной, а была тяжелой и полной неприятностей. Она всячески старалась делать вид, что счастлива и всем довольна, ни к чему будущим подданным знать, что юная девушка страшно устала от переездов во время путешествий, что ей не дают отдохнуть, что она измучена и даже потеряла аппетит и похудела. Никто не должен подозревать, что за каждым королевским приемом дома следуют слезы из-за бесконечных выговоров и неудовольствия матери. Что принцесса неимоверно устала от необходимости быть между двух огней, соблюдать правила приличия на приемах, ежеминутно ожидая очередного скандала… и еще много-много о чем.
Внезапно она поняла еще одно: никто, тем более Конрой и мама, не должны догадаться, что она все понимает! Терпеть осталось совсем недолго, скоро ей восемнадцать, и она многим сможет распоряжаться сама. Сама… это такое сладкое слово. Нет, Виктория не мечтала о свободе в полном смысле слова. Она даже не представляла, что это такое, девушке в голову не приходило бунтовать против правил приличия или навязанного скромного поведения, оно стало уже ее собственным. Верно говорят, что привычка – вторая натура. Виктория с малых лет привыкла быть послушной и правильной, но необходимость абсолютно во всем подчиняться чужой воле и делать только то, что сказали старшие, быть под их неусыпным ежеминутным приглядом и контролем, даже мысленно сверяться с их требованиями… это очень тяжело.
Принцесса, которой вот-вот исполнится восемнадцать, не имела собственной комнаты, при том, что огромное количество их было занято непонятно кем и чем. Лецен по секрету сообщила Виктории, что это тоже возмутило короля, когда он приезжал в Кенсингтонский дворец, узнав, что при семнадцати самовольно занятых комнатах герцогиня не выделила отдельной своей дочери, Вильгельм вспыхнул как спичка и бросился вон. Он ничего не сказал по этому поводу герцогине Кентской, королева Аделаида объяснила, что это просто желание матери ежеминутно быть подле дочери и беспокойство за ее безопасность. Король возмутился:
– Какую безопасность?! В Кенсингтонский дворец и муха не пролетит без разрешения Конроя!
Но спорить не стал, он чувствовал себя слишком уставшим и бессильным, особенно после скандала на приеме по поводу собственного дня рождения.
Решение Виктории после долгих размышлений было твердым: она перетерпит, еще немного она перетерпит. Но как только станет самостоятельной, места для сэра Конроя в ее жизни не будет вообще!
И Конрою не удастся ее сломать, а чтобы ненавистный Джон Конрой ничего не заподозрил, она будет послушной и терпеливой. Она все выдержит, дождется своего часа и тогда… Что тогда, Виктория пока не понимала сама, но по поводу отсутствия Конроя не сомневалась.
Виктория приходила в себя долго, но молодой организм все же справился, пересилил болезнь.
После болезни она словно повзрослела сразу на несколько лет, стала не юной особой, едва выросшей из детских платьев, а взрослой девушкой.
Первым это почувствовал Конрой, он долго и внимательно вглядывался в лицо Виктории. Очень хотелось крикнуть в ответ, что она все слышала и все помнит, но принцесса понимала, что делать этого нельзя, и стойко молчала. Она выдержала пристальное разглядывание Конроя, лишь пожав плечами:
– Не смотрите так, сэр Джон, я вполне прилично себя чувствую и встала с постели, потому что здорова.
– Не думаю, что вы здоровы, но воля ваша, вы же не слушаете советов старших…
Это была почти провокация, проверка, если она огрызнется, значит, не сломлена, и Конрой начнет ломать снова. Такого противостояния не хотелось бы, и Виктория изобразила покорность:
– Сэр Джон, я полагаю, заверения врача вас успокоили бы? Мне разрешили встать, без спроса я бы этого не сделала, уверяю вас. Я очень ценю заботу о себе с вашей стороны и со стороны миссис Конрой.
Миссис Конрой ни в малейшей степени не заботилась о девушке, разве что пару раз поинтересовалась ее здоровьем, а о сидевшей почти все дни и ночи рядом Лецен Виктория не упомянула нарочно, даже в дневнике записала (прекрасно зная, что мать прочтет все), что о ней заботилась дорогая мамочка. Потом подумала и все же добавила: «и дорогая Лецен». Этого отрицать не сможет никто, и, даже если это покоробит герцогиню, возразить невозможно, к тому же Виктория славилась любовью к правде.