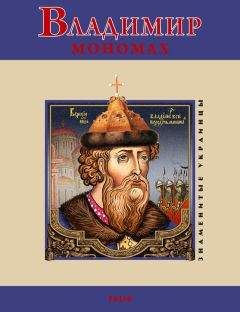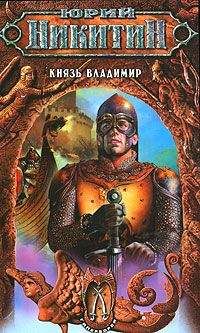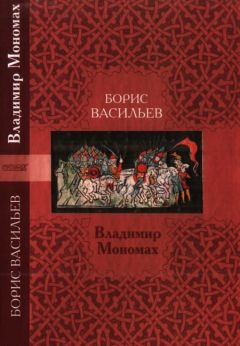Павел Загребельный - Смерть в Киеве
- Пойду к князю, - повторил он и вышел из палаты.
Оседлав своего коня, откормленного княжеским ячменем, Дулеб выехал из Перемышля. Он направился в сторону Кракова, одинокий, отданный на произвол стихиям и людскому коварству, а навстречу ему уже ехали к брату Володаря, слепому князю Васильку, в Теребовлю послы от Кривоустого, точнее говоря, от Петра Бластовича и везли весть о величине выкупа, назначенного за освобождение Володаря. Василько ужаснулся, услышав о том, что его любимый брат находится во вражеской неволе. Еще больше ужаснулся и возмутился он, узнав, что коварному бродяге Власту мало всех сокровищ обоих их с Володарем княжеств: в наглости своей он жаждал невозможного, требуя руки Марий.
Дулеб, оказавшись в Кракове и узнав о намерениях Петрока, готов был повернуть коня и снова возвратиться в Перемышль, ибо только теперь почувствовал, что молодая княгиня стала для него чем-то большим, чем девушка-вдова, чем дочь князя Володаря. Однако оказалось, что в Краков можно легко въехать, но выехать оттуда дано не каждому. Власт объявил Дулеба своим пленным. Дулеб, хотя и был еще молод, обладал достаточной твердостью, чтобы ни перед кем не поступиться своей собственной свободой, а готов был лучше умереть, чем оказаться чьим-то рабом, не исключая, быть может, даже самого господа бога. Но его и не считали рабом. Наоборот, Петрок сразу же создал ему такие условия, которым позавидовал бы не только воевода, но и какой-нибудь обнищавший князек. В обязанности лекаря входил присмотр за здоровьем самого Власта и молодой боярыни, особенно же боярыни. Во всем остальном Дулеб был совершенно свободен, к тому же мог, при желании, получить доступ к драгоценным книгам Власта, которых у него было так много, что даже княжеское собрание на Вавеле не могло похвалиться таким количеством и значительностью. Опять-таки благодаря своим неисчислимым богатствам Петрок сооружал по всей Польше богатые соборы, дарил для них украшения, посуду, книги, одеяния для священников, поэтому имел среди духовенства немало близких людей, среди которых первейшим другом считался каноник краковский Матвей, человек высокообразованный, который с одинаковой легкостью мог вести разговоры о вещах божественных, о мире и его законах, об истории, не исключая и лекарских знаний. С ним Дулеб проведет не один и не два года, возьмет от него так же много, как и от всего польского города над тихой Вислой, города, который чем-то будет напоминать ему через много лет Киев.
Если же говорить правду, то в Кракове Дулеб удержался два десятка лет не ради учения и щедрости Власта. Он остался там потому, что не мог оторваться от Марии.
Первые несколько лет между ними не чувствовалось ничего, кроме взаимной сдержанности, даже холода, который со стороны боярыни казался суровостью. Мария гордилась положением самой богатой в Польше женщины, была ослеплена роскошью, которой окружил ее Петрок, без памяти влюбленный в свою Белую княгиню, как он звал ее. Мария целиком отдалась во власть веселья и развлечений, которые прерывались лишь на короткое время, когда из Перемышля пришла печальная весть о смерти князя Володаря, а из Теребовли - о кончине князя Василька. В Марии еще очень много оставалось от детства: странно, однако Петрок своей заскорузлой от злодеяний душой тонко почувствовал ее детскость, быть может и затяжную, и прилагал все усилия, чтобы преждевременно не нарушить блаженное состояние, в котором пребывало это нежное, собственно, далекое от повседневной тяжкой жизни существо.
Три лета длилась осторожная игра опытного, насквозь испорченного, но внешне умело-осторожного человека с нетронутой чистотой Белой княгини. Петрок потакал всем прихотям своей юной жены, он похаживал вокруг нее, будто хищник, который на мягких лапах, втянув острые когти, осторожно подкрадывается к своей жертве. Собственно, затаившимся хищником в отношении своей жены Власт казался, наверное, одному лишь Дулебу, для которого стало мукой пребывание возле этой женщины; но и покончить со своей мукой, сесть на коня и исчезнуть среди людей не было сил. Терзался, терпел, ждал. Чего?
Через три года брак, о принудительности которого, кажется, помнил теперь только Дулеб, дал первый плод. Мария родила Петроку сына, назвали его Святославом, из чего нетрудно догадаться, что в душе Марии жила глубоко скрытая тоска по родной земле. Петрок не стал противиться желанию любимой жены назвать первенца русским именем. Этим он лишний раз свидетельствовал о своем преклонении перед Марией, возможно также, надеялся хотя бы частично искупить свою вину насильственного, говоря откровенно, увоза молодой княгини в Польшу, о которой даже покорный хронист Болеслава Кривоустого многомудрый Талл-летописец сказал, что она отдалена от проторенных дорог паломников и знакома лишь немногим, идущим на Русь ради торговли. В дар жене Петрок на собственные средства сооружает огромный трехнефный, с двумя башнями, собор во Вроцлаве, на острове Песочном. Собор украшается тимпаном, на котором под изображением Марии и сына Святослава были высечены слова: "Тебе, Мария Марии, мать матери, и сын мой Святослав". Этот божий дом был не первым и не последним из сооружаемых Петром Властовичем, с течением лет насчитывалось их свыше семидесяти. Божьи приюты, сооружаемые на награбленные средства, - все это должно было хоть чуточку смутить служителей церкви, которые принимали подарки Петрока с благодарностью и благословением, но так тогда заведено было повсюду, да и трудно, наверное, было найти в те времена богатства, добытые честным путем; честность могла разве лишь дать человеку кусок хлеба, как вот Дулебу, но и не больше.
Однако Дулеб тоже пополнил ряды людей бесчестных. Творил бесчестие в душе своей, созерцая расцветшую красоту Марии, живя с нею под одной крышей, прикасаясь к ее нежной коже (только лишь как лекарь), дыша одним с ней воздухом.
Первые три года Мария словно бы и не замечала Дулеба, а если и замечала, то только для того, чтобы сказать ему что-нибудь резкое и суровое. Он отвечал ей всегда сдержанно, но с достоинством, ни разу не уловила она в голосе Дулеба угодливости, это раздражало привыкшую к покорности и предупредительности молодую женщину, но в дальнейшем она должным образом оценила неуступчивость и холодную вежливость молодого русича: как-никак Дулеб был для Марии напоминанием о родной земле, к тому же напоминанием не самым худшим, потому что умел сохранить достоинство перед всеми, будь то Петрок, или умудренный учением каноник Матвей, или же и сам князь Болеслав, которого старость тоже вынуждала обращаться за помощью к умелому молодому лекарю. С течением времени она стала ловить себя на том, что спокойствие покидает ее, когда она видит этого удивительно сдержанного человека. Была ли это зависть к душевной чистоте Дулеба, желание растревожить его, дать почувствовать ему, как это трудно в семнадцать лет побывать и княжьей дочерью, и княгиней, пережить смерть мужа-князя, смерть отца, пережить позор насильственного брака и задыхаться от богатств, брошенных к твоим ногам чужим человеком, но одновременно и единственно теперь близким; то ли было это неосознанным, еще как бы детским стремлением укрыться от всех тревог мира и собственной души, а известно ведь - нет для слабой, нежной женщины более надежного убежища, чем спокойная рука мужа.
Но самым главным здесь было нечто другое, в чем Мария никогда бы не могла сознаться самой себе, разве лишь позднее, когда станет зрелой женой, опытной, мудрой и... неверной. Самым важным была их молодость, потому что из всего окружения Марии лишь Дулеб был близок ей по возрасту. Остальные, включая и самого Власта, были людьми намного старше княгини, они принадлежали к другому времени, к другой жизни. Первоначально за развлечениями и празднествами это не ощущалось, а когда Мария стала матерью и взглянула на мир более мудрыми глазами, она ужаснулась, какие все вокруг истасканные и пустые.
Дулеб возвышался над всем своей чистотой, от мысли о которой у Марии замирало сердце.
Будучи не в состоянии изменить привычного своего поведения с лекарем, она все же осмелилась словно бы в шутку сказать ему, когда он пришел по ее вызову осмотреть маленького Святослава:
- Ты свободно берешь за руку и меня, и моего мужа, и теперь моего сына. А если бы кто-нибудь взял за руку тебя?
- Такое бывает. Мужчины, здороваясь, имеют обыкновение пожимать друг другу руку.
- А если бы женщина?
- Такого не бывает.
- И ты сожалеешь?
- Иногда.
- Ну иди. Ты свободен, лекарь.
Но не дала ему выйти, задержала у двери, и голос ее предательски задрожал, когда она промолвила:
- Забудь об этом разговоре, лекарь.
- Уже забыл, княгиня.
Он упрямо называл ее княгиней, это льстило Марии; Петроку тоже нравилось, возносило его в собственных глазах, а Дулеб тем самым словно бы подчеркивал свою незначительность. Этот странно-неожиданный разговор как бы сломал между ним и Марией неодолимую преграду, женщина должна была бы называть его не лекарем, а Дулебом, однако не решалась, достаточно было сказанного, а веление забыть все казалось запоздалым раскаянием и, собственно, призывом не забыть все, а возвратиться снова к этому, пойти дальше, не ограничиться, быть может, одними лишь словами, но и...