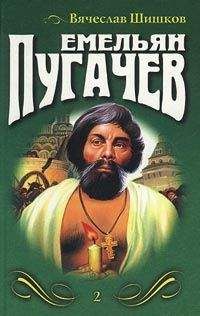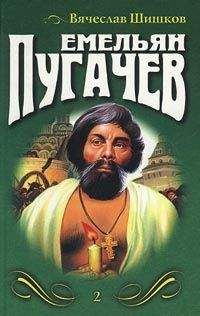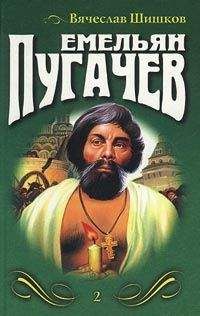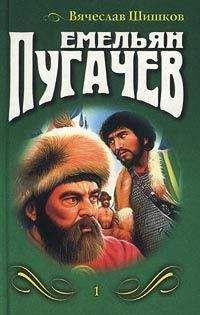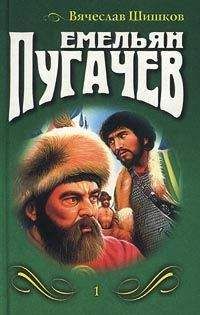Вячеслав ШИШКОВ - Емельян Пугачев (Книга 2)
Меж высоко вскинутыми бровями Емельяна Иваныча врубилась складка, и мучительно сжимается, не переставая ноет сердце.
Все притомились – люди и лошади, Пугачёвцы и голицынцы; притомилось, устало и солнце; закрывшись тучей, оно склонялось к горизонту.
Ведущий наступление генерал Мансуров предпринял коварный шаг: два эскадрона он послал на илецкую дорогу, двум сотням чугуевских казаков и двум эскадронам бахмутских гусар приказал занять большой оренбургский тракт, дабы отрезать Пугачёвцам отступление. В напутствие своему отряду генерал Мансуров сказал:
– Ежели вам этот маневр удастся, Пугачёву вживе не уйти от нас.
Гусары и чугуевцы начали не спеша огибать городок и крепость, но глубокие сугробы препятствовали их действиям.
Овчинников, заметив это движение врага, тревожно сказал Пугачёву:
– Видишь, батюшка?
– Вижу, – ответил Пугачёв и тяжко, рывком, вздохнул. – Что делать, Афанасьич?
– Нам воевать, а тебе скрываться, батюшка! А то, не дай боже, как бы в лапы тебе к ним не угодить. Я навстречь им кину сотенки полторы яицких да толпишку башкирскую, пускай задержат ворога на часок. А покамест дорога свободна, батюшка…
– Как можно, Афанасьич, – насупясь, прервал его Пугачёв. – На то нет моего согласия, чтобы спокинуть армию…
– Не перечь, твое величество! – взбросив голову, уже сердито проговорил Овчинников. – Не перечь! Худого советовать не стану.
Пугачёв ударил себя в грудь:
– Да лучше я лютую смерть приму, чем народ спокину!
– Брось, батюшка! Беги, пока не поздно!
– Сам беги!
– Нас-то таких много, а ты – царь! Пожалей себя и нас.
– Себя мне не жалко!
– Дело пожалей.
От сильного душевного смятения в лице Емельяна Иваныча подергивались мускулы и непроизвольно взмигивал правый глаз.
Умысел генерала Мансурова подметили и многие из Пугачёвцев. По два, по три, а то и в одиночку, они скакали на конях, бежали пешими с разных мест к государеву знамени.
– Батюшка, втикай! – задышливо кричали люди, указывая на пробиравшихся к дорогам мансуровских всадников. – Глянь, дорога-то! Уходи, отец наш!
И вот толпа набежавших людей окружила Пугачёва.
– Скрывайся, батюшка! Сохраняй себя, государь великий!
И к Овчинникову:
– Уйми, атаман, дьяволов-то, не лезли бы на дороги!
– А нешто не видите? – И атаман Овчинников махнул с коня рукой в сторону спешившего напересек мансуровцам отряда яицких казаков и башкирцев. Впереди скакал на рыжей лошади атаман Арапов.
– Детушки! – во всю грудь взголосил Пугачёв. – У меня умысел был положен: либо побить всех изменников, либо с народом смерть принять.
– Ой, што ты, што ты! Тебе ли погибать?! – закричали в народе, – не сироти нас.
Пугачёв опустил голову.
– Ин будь по-вашему, – проговорил он глухо. – Поспешайте же и вы всяк в свое место!
Когда народ отхлынул, Пугачёв обратился к Овчинникову:
– Прощай, Афанасьич! И вот что: коль скоро катькины войска будут наступать с горячностью, доразу и ты втикай… всем гамузом. Да в крепость запирайтесь, там и стойте до последа!..
Они обнялись и, под несмолкаемые шумы сражения, расцеловались.
Битва шла теперь все более убыстряющимся потоком. Овчинников предвидел скорую развязку. Он приказал распахнуть крепостные ворота, и ближайшие к валу Пугачёвцы уже начали втягиваться в крепость, другие же отхлынули к городским постройкам.
***
…По дороге к Оренбургу скакали во весь опор всадники. С Пугачёвым ехали: Почиталин, Коновалов, шурин Пугачёва – Кузнецов, ослабевший в бою старик Витошнов, Пустобаев, Ермилка и незаметно примазавшийся Григорий Бородин. Вслед им мчалась полусотня чугуевцев, гикая и стреляя. Одна пуля на излете угодила в плечо Пугачёву, но под его чекменем надет железный башкирский панцырь. Бородач Пустобаев, видя, что Пугачёв схватился за плечо, зычно крикнул ему:
– Батюшка, скачи! А мы чуток отстанем да острастку ворогу дадим.
Пугачёв ударил коня плетью, а сопровождавшие его приостановились и, укрывшись за деревьями, приготовились к защите. Но притомившаяся, на измученных лошадях, погоня преследование прекратила. Чугуевцы повернули назад, а пятеро из них, подняв ружья кверху и звонко голося, устремились к выехавшим на дорогу Пугачёвцам.
– Не стреляйте! – голосили они. – Мы с поклоном к государю.
И всей гурьбой, радостные, поскакали вслед за Пугачёвым.
А когда начало темнеть и утомленные, проголодавшиеся путники принуждены были позаботиться о пристанище, Коновалов сказал:
– Эвот в той рощице, недалечко от трахту, умет есть. А содерживает его оброчный крестьянин, старик Фома.
Иван Почиталин тотчас поскакал в умет для наведения там порядка.
Остальные, чтоб дать коням роздых, поехали шагом.
Емельян Иваныч со всеми ласково беседовал. Только на Григория Бородина – ни малейшего внимания. Впрочем, ему соблазнительно было спросить казака: «Пошто, мол, ты, этакий детина, не остался в крепости?» – Но он воздержался от вопроса, опасаясь, что Гришуха, подобно Митьке Лысову, чего доброго, внатыр пойдет да скажет: «А ты, мол, сам пошто из крепости-то сбежал?» И еще у Пугачёва был соблазн: послать своего шурина Егора Кузнецова в Яицкий городок за голубкой осиротевшей, за великой государыней Устиньей. «Нет, не под стать мне оные непотребные думки, да еще в этакое время», – упрекнул себя Емельян Иваныч.
Между тем правительственные войска, окружив крепость, лезли на обледенелый вал со всех сторон. Вдоль вала шла резня. Солнце давно село, наступили сумерки, а крепость еще держалась. Гренадеры и владимирцы ворвались в крепость первыми. Кавалерия, преследуя отступавших, проникла к Татищеву тремя въездами. Большая часть Пугачёвцев, после сильной перепалки, успела из крепости вырваться. Отступая, они вели упорный бой на илецкой дороге, противу команды Юрия Бибикова. Те, что остались в Татищевой крепости, защищались от ворвавшихся голицынцев с отчаянным ожесточением.
Войска Голицына преследовали отступавших. Атаман Овчинников с частью своих сил ушел в Илецкий городок, остальная толпа побежала бездорожной степью в сторону Переволоцкой крепости. Потери Пугачёвцев были очень велики. В плен попало около трехсот яицких и илецких казаков и более двух тысяч плохо обученных военному делу крестьян, башкир, татар, калмыков.
Потери правительственных войск тоже были значительны: три офицера и сто тридцать восемь солдат убито, девятнадцать офицеров и четыреста семнадцать солдат тяжело ранено.
Вконец истоптанное поле битвы было пусто. Лишь играли на нем две прибежавшие из Татищевой сытые собаки. Одна, черная, с торчащими ушами, схватила валявшуюся шапку и помчалась прочь, все время косясь через плечо – гонится ли за ней лохматый, рыжий, хвост кренделем, приятель. Тот догнал, на бегу вцепился в ту же шапку, и вот оба бегут рядом, как в дышлах кони. Враз бросили поноску – человеческая голова лежит! Наскоро полизали запекшуюся кровь на разрубленной шее, лизнули в нос, в бороду, в полузакрытые глаза. И снова – обе к шапке. Схватили, и каждая тянет шапку в свою сторону, упруго приседая на задние лапы, улыбчиво поглядывая друг дружке в зеленоватые глаза и незлобно урча.
Когда же спустилась сутемень, из рощи, из перелесков прокрались на место побоища хозяйственные мужички, весь день махавшие топорами и вилами на этом поле. Этакий изъян учинился им!.. Андрон топор потерял да самодельный нож, Ванюха – железный штырь с набалдашником да кожаные голицы, Вавила – топор да шапку, Митрий – новый кушак с кистями.
В небе каленые звезды крепли, всходила луна. Вправо темнела крепость.
Из-за вала маячили отблески огней. Доносились к мужикам отдельные выкрики, звяк котлов. Вот ударил, рассыпался мелкой дробью барабан, затем ненадолго – тишина, и, нарушая ее, полилось во все стороны тысячегрудое пение вечерней молитвы: войска Голицына напились, наелись, готовились ко сну.
Крестьяне, их десятка два, ползали по снегу, выискивали нужное: топоры, шапки, рукавицы, пистолеты, ружья.
– В домашности все сгодится… Аркан? Давай аркан… Седла-то, седла с уздечками снимай с палых лошадей. Седла да ружья с пистолями царю-батюшке пойдут. Поди, сыщем его, надежу-государя…
В иных местах крестьяне, кряхтя и корячась на снегу, проворно переобувались: подобранные добротные валенки надевали на свои помороженные, в лаптишках, ноги.
– Ну, мужики, возище добра-то!.. А как дотащим?.. Мотри, пымают – головы ссекут!..
– Ни хрена не пымают!.. Дрыхнут! И солдатня и начальники. Притомились все…
– Глянь! На коне кто-то бежит. Втикай, робя! – И крестьяне стадом бросились к оврагу.
– Стой, стой!.. – кричал, настигая их, всадник. – Не страшитесь, православные, это я, Максим!.. Ужли не признали?.. Я – Максим Обабкин!..
– Макся, ты?
– А кто же? – прохрипел всадник. – Ну, робя, молись богу, господь-батюшка нам милости послал! Полдюжины коней из крепости в рощу прибежали, там сено в стогах. Лошади-то, должно, еще днем сено-то заприметили, как бой был… У лошадей-то, чуешь, память дюжее, чем у кошек… Во!