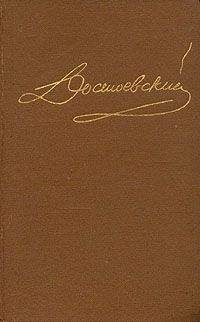Михаил Филиппов - Великий раскол
— Кто носил сюда непотребное? — вдруг спросил он у стрельцов, а затем, быстро обернувшись, недоверчиво посмотрел на растерявшихся женщин.
Стрельцы молчали.
— Кто допускал приходящих? Как послания Аввакума сюда доходили?
Он рассматривал яму, узниц, стрельцов, и лицо его краснело от гнева и злости.
На следующий же день стрельцы были сменены, а вскоре из Москвы был прислан новый караул. Как ни старались узницы разговорить новых стражников, они оставались молчаливыми и только зло поглядывали на Морозову и ее подвижниц.
Так прошло еще полгода, и никто из них не знал, что же ожидает всех впереди.
XXVIII
На Петров день прибыл в Боровск из Москвы дьяк Кузмищев. Он был известен в столице, как знаток по розыску, и кличка ему была дана «Людоед».
В голове его уже сложился целый план действий с заключенными. Он не в силах был распоряжаться жизнью и смертью двух сестер, но остальные заключенные были отданы ему в полное подчинение.
Он появился в остроге сразу на другой день после приезда и, войдя в яму, низко поклонился заключенным:
— Поклон вам низкий из Москвы, княгинюшка да боярыня, — преувеличенно любезно сказал он и усмехнулся, оглядывая яму. — Обжились маленько, домком обзавелись… Давненько милость вашу не тревожили…
Кузмищев, зорко оглядев узниц, подошел к Устинье.
— Сказывают, мать, что ты воровство свое еще больше усилила, байками тут всех кормишь, письма Аввакумкины получаешь?
— Воровством не занимаюсь, — сурово заметила старуха, — а честного отца нашего не моги Аввакумкой называть!
— Зубаста ты, старуха! — отозвался дьяк. — Подожди немного — возжгу из тебя свечу воску ярого!
Морозова и Урусова со страхом посмотрели на Устинью.
— С радостью сподоблюсь венец мученический принять! — прошептала старуха.
— Ну, это ты уже сама размышляй, мученический он или просто так, — махнул рукой дьяк.
На следующий день уже с рассвета был слышен стук топоров. Он не смолкал до обеда, и после перерыва опять возобновился.
— Строят что-то, — прошептала Урусова, напряженно прислушиваясь.
— Горенку для меня готовят, — обрадованно догадалась Устинья. Пришел час мне ко Христу отойти!
— Помолимся, сестры, — сказала Морозова, и узницы начали молиться.
Вечером в яме снова появился дьяк.
Оглядев всех узниц, он остановил взгляд на Устинье и, усмехнувшись, медленно произнес:
— За твое воровство и нераскаянность повелевает пресветлый государь возжечь тебя огнем. А про остальных указу нету, — повернулся он к замолкнувшим женщинам.
Устинья, побледневшая, подошла к сундуку и принялась доставать белую рубашку — вместо савана.
Вскоре в яме снова появились дьяк с палачом.
Старица зажгла восковую свечу и вышла в последний раз из ямы. Кузмищев приказал и остальным узницам присутствовать на казни.
Они так давно не были наверху, на свежем воздухе, что в первое мгновение закружило голову, а свет, даже неяркий, вечерний, больно ударил по глазам.
Они шли, как на ощупь, сощурив глаза, и жадно вдыхая свежий, теплый и сухой летний воздух.
Вокруг сруба уже стояло много народа, ожидавшего казни. Морозова вздрогнула, увидев, как к срубу повели одетую в белое старицу. В руке она держала, осторожно прикрывая ее от ветра, горящую свечу.
— Благослови нас, святая мученица, — закричали женщины, и старица, обернувшись, осенила их широким крестом.
Кузмищев приготовился читать царский указ, который сам же Кузмищев написал в тот день, пользуясь своими правами вести расследование, как вдруг Устинья, наклонившись, поднесла свечу к снопам соломы, которой был наполнен сруб.
Огонь, вспыхнув, тут же охватил всю постройку. Устинья потонула в огненном вихре.
Кузмищев, сердито посмотрев на оставшихся узниц, приказал всех увести.
XXIX
Через неделю, когда была готова новая яма, еще более глубокая, Морозову и Урусову перевели в эту темницу. Марию Данилову посадили отдельно, поместив ее в городской тюрьме, среди убийц и злодеев.
В яме теперь день и ночь стояла темнота. Сестры не видели друг друга. Было темно, и так тоскливо, что женщины почти не разговаривали. Казалось, сам воздух ямы подавляет звуки.
Сперва узницы еще молились, но Кузмищев, услышав это, спустился к ним и отобрал четки и лествицы, по которым они молились.
Теперь они не могли класть положенного числа поклонов, пока Морозова, оторвав из сорочки длинную полоску, связала материю узлами. По ним теперь читали «Отчу» и «Богородицу».
В яме было так душно, что женщины невыносимо страдали «от задухи земные». Вновь вырытая яма словно дышала сыростью. Влага просачивалась со стен.
Чтобы сделать их существование еще больше невыносимым, Кузмищев приказал приковать узниц к стулу, который они с большим трудом могли передвигать по земле.
Им опускали так мало пищи и питья, что силы оставляли женщин с каждым днем.
Узницы чувствовали, что их смерть уже не за горами.
Прошло лето, пошли осенние дожди, осенние холода, и теперь от стужи нельзя было снимать с себя обветшавшую одежду. Силы оставили так, что узницы уже не могли совершать необходимого количества поклонов. Временами Евдокия ослабевала так, что не могла сдвинуть с места стул, к которому была прикована, и тогда она творила молитву лежа или сидя.
Неожиданно она начинала ползать вдоль стены, нащупывая выход, и когда испуганная Морозова спрашивала, что она делает, в ответ княгиня кричала:
— Душно мне, сестрица, воздуха хочу…
Все чаще Морозова со страхом слушала, как бредит сестра — то казалось, что ее выпустили наконец на волю, что она бродит по лесу или лугу, видит мужа и детей…
Рассудок вернулся к Урусовой незадолго до смерти.
Однажды боярыня проснулась от того, что сестра тормошила ее за плечо.
— Отпой отходную, — услышала Морозова шепот. — Что знаешь, то и говори. А что я знаю, то я скажу.
Морозова, вскочив, стала быстро читать отходную молитву, и умирающая повторяла слова, поправляя плачущую сестру.
Морозова еще продолжала читать, когда княгиня затихла. Не слыша ее голоса, боярыня наклонилась, прислушиваясь к исчезнувшему дыханию.
Но в яме теперь стояла полная тишина.
Только вчера в яму спустили еду для узниц. И теперь сторожа могли несколько дней не показываться здесь.
Морозова испуганно наклонилась к трупу сестры, и поняла, что она действительно умерла.
Морозова закричала, ни никто ее не услышал. Часы проходили за часами, и никто не приходил.
Прошло не менее двух суток, как чувствовала боярыня, когда заскрипел тяжелый засов верхнего входа в яму. В темницу кто-то входил.
Морозова изо всех сил бросилась к входившему, волоча за собой прикованный стул.
— Чего тебе? — испуганно отпрянул сторож, принесший еду.
— Скажи там, наверху, что сестра моя померла, — простонала Морозова.
Сторож недоверчиво стоял на месте, и только когда боярыня повторила, он с криком бросился из темницы, захлопнув за собой дверь.
Когда в подземелье стал опускаться со свечой Кузмищев, здесь впервые появился свет. Морозова, два с половиной месяца просидевшая в темноте, без света, вздрогнула.
Первое, что она сделала — бросилась к лежащей перед ней мертвой сестре, труп которой начал уже издавать зловоние. Она не узнала лица сестры, серого, измученного страданием и болезнью.
— Отпеть нужно, — не глядя на боярыню, проговорил дьяк.
— Не должны никониане истинных православных отпевать, — зло ответила Морозова. — Ангелы отпоют ее.
— Как знаешь, — пробурчал Кузмищев.
Он позвал стрельцов и приказал тут же, в яме, выкопать могилу.
С трудом сдерживая рыдания, Морозова начала читать погребальный канон.
Та, которая еще недавно была с почетом принимаема во дворце, была уже завернута в рогожу и опущена в яму.
Стрельцы начали засыпать землю.
Морозова больше не могла сдержать себя. Бросившись к могиле, она упала на землю и с воем стала биться о нее головой.
XXX
С этого дня потянулись для Морозовой однообразные дни заключения.
Как сквозь сон восприняла она приезд от государя посланцев с вещеванием, с обещанием вернуть все богатство и почести, если только согласится она не держаться старой веры, еще один приезд какого-то инока, затем митрополита — ни с кем не хотела говорить боярыня, и сами посланцы, смущенные ее поведением, скоро уезжали.
Наступила осень, сырая, глубокая. Целыми днями моросил дождь.
Ни один звук не проникал в глубокую яму, но по глинистым стенам катились потоки воды. Глинистый пол пропитался влагой, раскис, и ноги были постоянно сыры. Солома, на которой спала боярыня, давно сгнила, тошно пахала.