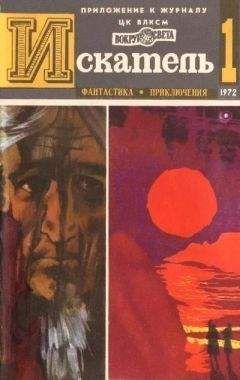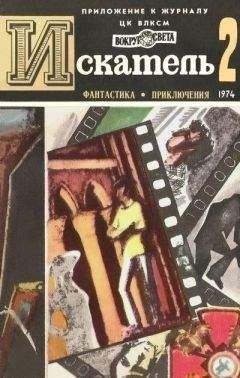Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
Обошел и сообщил. Все они своего отношения к новой версии не высказали, кроме клоуна Каран’д’аша, заметившего: «Тоже весело…»
Тогда я велел Тэддеру забыть эту историю навсегда. Ее не было.
И он забыл.
А я – помню.
– Смотри, какой ты памятливый, – усмехнулся Ковшук. – Помнишь, значит, Грубера…
– Я, Сеня, все помню, – заверил я его и достал из кармана два сложенных листочка.
Старые они были, по краям выжелтели, а в середине – ничего, и не мятые совсем, их-то и сгибали-складывали всего два раза: когда я их очень давно вынес из Конторы, и сейчас, когда вынул из секретера, отправляясь в гости к старому другу.
– Все помнишь? – удивился Ковшук.
– Все! – подтвердил я.
– Ну-ну, может быть… – И в мотании его головы не было ни удивления, ни простодушия. Какая-то тайная угроза сквозила в его неподвижности, но я все равно протянул ему листочки. Игра уж больно серьезная затеялась. Ставки велики. Только один обмен устраивал меня – баш на баш, башку на башку.
– Возьми, Сеня, тебе они нужнее. Была у меня когда-то возможность, вынул из твоего личного дела…
Он взял листочки и стал читать их, медленно шевеля роговыми губами, и мохнатые бровищи двигались на фаянсовой плошке лица лениво, как сытые мыши.
Он держал объяснительную записку Тэддера с описанием их с Оганесом Бабаяном художеств далеко от глаз, будто хотел изучить ее на просвет.
Обстоятельно читал, долго, собираясь запомнить, наверное, каждое слово.
Потом положил листы на стол, прижал их огромной вспухлой ладонью, повернулся ко мне, но ничего сказать не успел, потому что в дверь проскользнул кардинал Степа, нунций в советской Швейцарии:
– Семен Гаврилыч, я заберу бутерброды, закуски людям не хватает…
– Бери, Степушка, бери. «Сливки» хорошо идут?
– Хватают, только наливать поспевай!
– Ты, Степа, смотри: больше трех стаканов в одне руки не давай. А то налузгаются здесь, как бусурмане, скандал будет, милиция припрется. Ни к чему это…
С энцикликой сией и подносом говнобутербродов убыл нунций – пасти алчущие под дверью народы, а Семен сказал:
– Я ведь знал, Пашенька, что придешь ты ко мне однажды.
– Не может быть! – поразился я, всплеснув руками. – А почем знал?
– Потому что ты, Пашуня, человек от всех особый. Нет для тебя ни дружбы, ни любви, ни верности, ни родных… Ничего нет. Даже у волков в стае и у тех есть закон. А у тебя ничего нет – дьявол в тебе живет!
– Перестань, Сема, не выдумывай, не пугай меня. Не расстраивай – заплакать могу…
– Тебя, Паша, ничем не расстроишь. Сколько ж ты лет держал эти бумаги, чтобы их сегодня принесть?
– Ты ведь грамотный – недаром из Паранайска сбежал. Глянь на дату – там написано.
– Тридцать лет, – покачал башкой Семен. – Пугануть, что ли, захотел?
– Сем! Ты совсем с катушек соскочил? Зачем же я бы тебе листки-то отдал? Кабы пугать хотел?
– Не знаю, – честно сказал Ковшук. – Твой умишко пакостный всегда быстрее моего работал. Тебе в шахматисты надо было податься, Карпова, может, обыграл бы. Всегда далеко на вперед думаешь…
– Ох, Сеня, верно сказано: ни одно доброе дело не проходит безнаказанно. Хорошо ты меня благодаришь за товарищеский поступок!
Ковшук криво ухмыльнулся:
– Тебе ж моя благодарность не на словах нужна! Что тебе надо за «товарищеский поступок»?
Я глубоко вдохнул, как перед прыжком во сне, и равнодушно сообщил:
– Человечек тут один – совсем лишний…
– …Совсем?
– Совсем.
Ковшук молчал. Не так, как молчат в раздумье над поставленной задачей, а отстраненно, далеко он был, будто вспоминал что-то стародавнее.
– Если я умру… – заговорил Семен неспешно, и, судя по этой обстоятельности, он не сомневался в существовании альтернативы. Но почему-то замолчал, весь утонул в своем тягостном воспоминании.
– Что будет, если ты умрешь? – поинтересовался я.
Но он махнул рукой:
– Ничего, не важно. Ты мне только скажи, Павел, зачем тебе все это?
– Трудно объяснить, Сема. Но если коротко – я хочу победить в жизни.
Семен помотал своим черным адмиральским фургоном:
– В жизни нельзя победить, Пашенька, жизнь – игра на проигрыш… Может, и не надо было уезжать из Паранайска… – И, вздохнув, неожиданно отказался от альтернативы. – Все одно всякая жизнь кончается смертью!
– Сеня, смерть – это не проигрыш. Смерть – это окончание игры.
– Одно и то же, – сказал он устало и подвинул ко мне по столу листы с объяснением Тэддера. – Возьми их, Паша, не не нужны они мне…
Ах, какая тишина, какое молчание, какая тягота немоты разделяла нас! Слабо гудела люминесцентная лампа, шоркал дождь по стеклу, какая-то пьяненькая девка заорала на улице пронзительно-весело: «Никакого кайфа от собачьего лайфа!..»
Я достал зажигалку, поднял над столом листы и чиркнул «ронсоном» под левым нижним уголком, где фиолетовыми чернилами, радужно зазеленевшими от времени, была выведена трясущейся рукой вялая подпись: «Б. Ф. Тэддер. 28 октября 1948 года».
Желто-синее пламя ласково облизало лист, скрутило его в черный вьющийся свиток, побежало вверх, почти стегануло мне жаром пальцы, и тогда я уронил этот живой, бьющийся кусок огня в большую железную пепельницу. Пыхнул пару раз бумажный костерок, пролетел по комнате серым дымом, и я пальцем расшерудил слабый потрескивающий пепел. На кусочке пепла ясно проступило серебряное слово «Грубер», и я растер его. Все исчезло.
Память о Грубере была кремирована. Теперь навсегда.
– Так что, Сеня, значит – нет?
– Почему нет? Да. Я его уберу.
– Ну и хорошо.
– А почему ты сам не управишься? Не хуже моего умеешь.
– Мне нельзя. Я около него засвечен.
– Ладно, сделаю. Кто?
– Я тебе его завтра покажу.
– Хорошо, – кивнул Ковшук и взял со стола свой грязный кухонный нож, посвечивавший бритвенным лезвием. – Подойдет?
– Вполне.
Мы помолчали.
И мне показалось, что Ковшук облегченно вздохнул:
– Это хорошо, что ты пришел. Мне как-то неудобно было – я у тебя в долгу жил…
– Да брось ты! Какие у нас счеты?
– Не скажи! Долги надо отдавать.
Господи, какое счастье, что мы все-таки очень мало знаем друг про друга! Как усложнило бы нашу жизнь ненужное знание! Если бы Семен знал все, он, может быть, не стал бы ждать нас завтра с Мангустом, а полоснул меня своим ножом прямо сейчас…
– Ну что, Павел, до завтра?
– В смысле – до сегодня. Я часа в три приду.
– Тогда бывай здоров.
– Пока.
У дверей гостиницы веселилась, шутковала с кардиналом Степой проститутка Надя. Увидела меня и крикнула:
– Вон он, мой бобер распрекрасный идет!
– А где ж твои фраера? – спросил я.
– Да ну их в задницу! Чучмеки, дикий народ. Я им «динаму» крутанула и вернулась. Поехали ко мне?
– Поехали. На червонец, иди возьми у Гаврилыча бутылку.
Она побежала к моему славному адмиралу, уже поднявшему на мачте невидимого «Веселого Роджера».
А я вышел на дождь и подумал, что впервые мне удалось перехитрить Истопника, оторваться от него. Наверное, потому, что я нырнул в старую жизнь. Туда ему не было ходу.
Выскочила вслед за мной Надька, дернула за рукав:
– Вон левак катит, голосуй быстрей!
Я сошел на мостовую и замахал изо всех сил медленно плывущей по лужам черной «Волге». Плавно подтормаживая, она уже почти совсем остановилась около нас, я наклонился к окну водителя, он приспустил стекло и вдруг визгливо захохотал.
– Дядя, ты чего, озверел? – спросила его Надька.
А я оцепенело смотрел в эту медленно уплывающую, истерически смеющуюся рожу, блеклую, вытянутую, со змеящимся севрюжьим носом и невытертым мазком харкотины на щеке…
Взревел мотор, шваркнули баллоны, и машина умчалась.
– Мудозвон чокнутый! – крикнула сердито вслед Надька, отряхнулась от брызг и спросила: – Он тебя что – знает?..