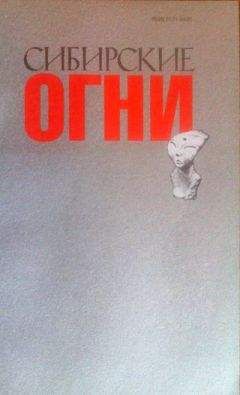Сергей Бородин - Баязет
Вдоль стен в светильниках колыхалось пламя, отчего чудилось, что даже деревянные почернелые столбы, подпиравшие потолок, колышутся. А девушки, танцующие или перебегающие, казались невесомыми, неземными: колеблющийся свет искажал их движения.
Барабан равномерно, глухо, самоуверенно подчинял своей поступи ряд недораздетых красавиц, сомкнутых в пляске.
Смуглая толстуха, почти ничем, кроме длинных кос, не прикрытая, охватила ногами и руками высокий барабан, и он ухал под её пухлыми пальцами.
Уловив взгляд историка, хромая сводня подмигнула:
— О покровитель! Она с барабаном только шалит. Она и без барабана дело знает. О!.. Как знает!..
И прищёлкнула языком, сощурив глаза.
Среди этого круговорота, меж этих прозрачных, призрачных покрывал, в кругу розоватых, и смуглых, и чернокожих дев восседал султан в блестящих позлащённых доспехах, с мечом на коленях, в островерхом шлеме, венчанном страусовыми перьями, как, бывало, обряжались франкские крестоносные рыцари, красуясь на турнирах. Память и предания о них крепко держались среди арабов и, как сказки, пересказывались над младенческими колыбелями.
Ибн Халдун терпеливо ждал в столь неудобном месте хотя бы краткого затишья, чтобы предстать перед султаном с недоброй вестью.
Но девушки сменяли друг друга, музыканты же не смолкали, барабанщица барабанила размеренно, как бьётся сердце, и постепенно Ибн Халдун сам вовлёкся душой в девичьи пляски среди искренней наготы, ликовавшей вокруг.
По знаку старух девушки постелили на пол иссиня-чёрный ковёр, и среди залы словно разверзлась непроглядная бездна. Половину светильников погасили, всё погрузилось в полутьму. Из этой полутьмы на ковёр упали белотелые широкобёдрые персиянки в серебристом шёлке, как в лёгком тумане.
Барабан бил мерно, настойчиво.
Персиянки затеяли ласковый танец, раскинувшись на полу. Казалось, их гибкие тела томятся и нежатся, воспарив над бездной, ибо не стало видно ковра под ними.
Барабан ускорял своё биение, бил уже не столь равномерно — порывистей, глуше.
Тогда к этим раскинувшимся белотелым плясуньям кинулись негритянки. Объятия танцовщиц были их танцем, где тёмные тела слились с темнотой ковра и оказались невидимы, а белые сверкали в таких неожиданных поворотах, что у Ибн Халдуна прервалось дыхание. Лицо он сморщил так, будто во рту перекатывал невыносимо горячий комок.
Погасли последние светильники.
В полной тьме слышен был только нарастающий, ускоряющийся, прерывистый бой барабана, и не то чудилось, не то слышалось такое же глухое, прерывистое дыхание плясуний.
Вдруг внесли факелы.
Зала засияла золотисто-алым, нестерпимо ярким, как полдень, пламенем.
На полу уже не оказалось ни девушек, ни ковра.
Только барабанщица в изнеможении валялась, отвернувшись от откатившегося барабана.
Её торопливо покрыли шалью, подняли и увели.
Султан вдруг в углу среди старух увидел Ибн Халдуна.
Никогда на лице мальчика историк не знал такой растерянности, испуга, стыда.
Оступившись, султан встал, а сводни, догадавшись, что тут сейчас не до девушек, одним мановением убрали всех прочь из залы и сами исчезли.
Забыв, что обе его руки сжимают меч, выпрямившись, султан Фарадж, как во сне, шёл к своему наставнику.
Наконец Ибн Халдун понял, что ему тоже надо идти к своему султану, и пошёл, поскальзываясь и спотыкаясь на каких-то безделках и обломках, валявшихся на полу.
— Вы пришли? Уже столь поздно? — спросил султан.
— Ещё не поздно, но времени не осталось.
— Как тут поступил бы мой отец? В таком случае?
— Если бы он был в вашем возрасте, он поспешил бы в Каир отсюда.
— Без войска?
— Взяв с собой столько, чтоб в пути не бояться ни львов, ни разбойников.
— А остальные?
— Останутся. Остановить татар.
— И отстоять город!
В этом дополнении к своим словам Йбн Халдун уловил согласие. Фарадж не отказывался уехать, но опасался за Дамаск.
— Когда войско спокойно за вас, оно станет крепче биться.
— Я в Каире буду ждать известий о победе!
— Ещё бы!
Ибн Халдун, откланявшись, попятился к двери.
— Ночь, государь.
— А Тимур далеко?
— Их путь сюда измеряется немногими днями.
— Когда же они успели?
— Они скоро ходят. В том их сила.
— Но не завтра же!
— Нет. Но завтра надо отправиться вам.
— Я обдумаю ваши слова.
— Прежде чем они дойдут сюда, вам следует быть подальше отсюда.
— Я обдумаю…
В сенях, вдевая ноги в туфли, Ибн Халдун дышал легче: он опасался возражений. Самонадеянный мальчик кинулся бы возглавить войско. Это выглядело бы красиво. Но это перепутало бы все стройные расчёты опытного человека. Теперь султан уедет, и судьбу Дамаска Ибн Халдун возьмёт в свои руки.
2
И султан отправился назад в Каир.
Никаких торжеств при отъезде не было. Народу не было объявлено об отъезде Фараджа. Пятитысячный отряд, предназначенный сопровождать султана в Каир и хранить его там, вышел в путь заранее и остановился ждать в одном дне перехода. Сам же султан проехал через Дамаск с небольшой свитой. По городу пошёл слух, что никакая опасность Дамаску не грозит и поэтому султан выехал поохотиться на львов.
Некоторые дамаскины поудивились:
— На львов? Но где же он их найдёт?
В окрестностях Дамаска львы давно не показывались, а вот в Магрибе, неподалёку от Туниса, львы бродили стадами и, случалось, нападали даже на караваны. А через Сфакс, как рассказывали, больные львы проходили купаться в море и зимой отлёживались на тёплых отмелях острова Джерба. Там, в Магрибе, может быть, и охотились на львов, хотя и неизвестно, зачем на них охотиться, а здесь такой охоты не бывало. Видно, придумал всё это какой-нибудь магрибец, забыв, что тут Дамаск, а не Кейруан.
Но львы ли, не львы ли, охота ли, поход ли, султан Фарадж отбыл, и никому не следовало знать, что он отбыл далеко и безвозвратно.
Сводням приказали своих девиц по-прежнему держать во дворце, как было при султане. Музыкантов отпустили, не велев приходить до возвращения султана с охоты.
Девицы бродили по женской половине дворца, лениво баловались и возились между собой и порой вспоминали, хорошо ли новенькое вооруженьице султана Фараджа. Кормили их хуже и музыкой больше не развлекали.
А за стенами дворца никакого покоя уже не осталось. На базаре, оказалось, за день раскупили всю крупу, пшеницу, просо, рис, бобы, горох, чечевицу. Всякие припасы, пригодные для долгого хранения, подорожали. К концу базара цены поднялись втрое, — видно, народ догадался, что не о львиной шкуре хлопотал султан, отъезжая вдаль от Дамаска.
Но крупу скупали не столько беспечные жители, сколько прозорливые купцы.
По всем улицам вокруг базара началась распродажа домашней утвари, одежды, драгоценностей: жителям нужны были деньги, чтобы запасти крупу. Если случится осада, станет не до колец, не до нарядов.
Жители пытались поскорее сбыть своё достояние, а купцы уже сговаривались придержать съестные товары, цен не сбавлять, торговать по сговору.
Вдруг на базаре вздорожали мешки.
У кого нашлись порожние мешки, сбегали за ними, продали задорого: мешки понадобились купцам вывезти из базарных закромов и амбаров в укромные места все запасы круп, муки, сушёных плодов, вяленого мяса.
Через день в хлебных рядах опустело, словно метлой вымели.
Подорожали большие кувшины — надо запасать воду.
У кого было всё запасено, принялись втихомолку сгребать серебряные деньги и в кисетах, в кувшинчиках, в медных банках закапывать в землю втайне от соседей, замуровывать в стены.
По городу в харчевнях ещё жарили и варили мясо, но хлеба уже никто не давал. К мясу подавали всякую зелень, но перец, лук берегли: перец и лук вздорожали; их можно было, подвесив под потолок, долго хранить при любой осаде. Не подавали подливку к мясу: жир, стекавший с вертелов, сливали в кувшины, убирали про запас.
Хлеб, кто по извечному обычаю пек его дома, теперь изловчились так печь, чтоб радостный домашний дух свежего хлеба, которым прежде каждая хозяйка гордилась, теперь не достигал ноздрей соседа.
На базарных площадях и улицах много людей молча останавливалось и стояло вдоль стен, вглядываясь в странный, примолкший базар.
Ещё слышались голоса продавцов, неуверенно хваливших какие-то лежалые товары. Кое-где скрипели арбы. Медленно, молча прохаживались покупатели между рядами пустых лотков и прилавков. Вчерашний жаркий, суетный, самозабвенный базар умолк.