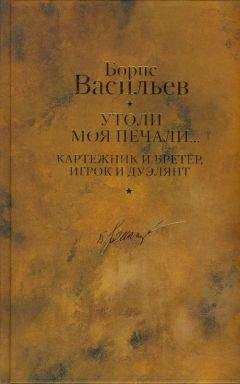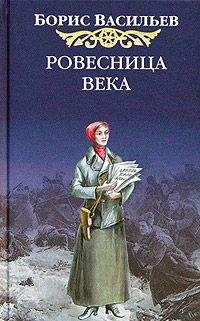История рода Олексиных (сборник) - Васильев Борис Львович
Князь опять улыбнулся одними губами. Он не впервые виделся с Толстым, знал его по Москве, но знал иного — холодно-аристократичного, холодно-корректного, холодно-замкнутого. А сейчас с ним разговаривал человек, который, слушая его и отвечая ему, все время напряженно думал о чем-то далеком от этого разговора и оживлялся тогда лишь, когда в беседе их возникало что-то ведущее туда, в его мысли. Князь чувствовал это, но никак не мог определить тех точек, которые соединили бы его с хозяином не хлипкими мостками сдержанной вежливости, а единым потоком общих размышлений, А ему хотелось влиться в этот поток, ощутить его глубину и холод, и поэтому он сказал:
— Что ж, я с удовольствием. Если сапоги сыщете.
Сапоги отыскались быстро, гость и хозяин оделись и вышли на крыльцо. Дождь припустил сильнее, и они задержались под навесом, ожидая, когда появится Василий Иванович.
— Вы не рассматривали мысли, что война есть нечто, изначально присущее человеческой натуре? — спросил князь, зябко кутаясь. — Если переплести это с теорией естественного отбора…
Он замолчал, увидев, что Толстой смотрит мимо него, и смотрит с живым интересом. Оглянулся и увидел крепкую рослую девку, которая бежала через двор, накинув на голову подол юбки и с детской радостью шлепая по лужам босыми ногами. Бежала она, наверно, издалека, раскраснелась, пылала жаром молодого тела, и не только юбка, но, и белая рубаха ее промокла насквозь. А ветер бил ей навстречу, и мокрая рубаха липла к телу, обрисовывая не только сильные ноги, но и кругло выпяченный живот. И этот круглый живот, и бедра, и крупные груди — все упруго вздрагивало при беге, невольно притягивая любой, даже самый равнодушный мужской взгляд.
— Вот вам ответ, — сказал Толстой, глянув на князя засиявшими глазами. — Сколько искренности, открытости в женском теле, недаром его так любят рисовать. Поэтому в любви женщина отдает свое тело целиком, до кончиков пальцев, а мужчина и в любви себя бережет. Зачем, а? Полагаете, для войны, для изначального предназначения своего?
Князь не успел ответить: через двор прямо по лужам шел высокий, худой, очень прямой даже при ходьбе человек.
— Рекомендую, — сказал Толстой, спускаясь с крыльца. — Учитель сына Сергея и мой друг Василий Иванович Олексин.
— Олексин? — точно прислушиваясь к звучанию, повторил князь. — Да, да, конечно. Редкая фамилия.
Вторые сутки шел нескончаемый дождь, крупный и холодный. Пленные кутались в мокрые шинели, жались друг к другу: турки запрещали разводить костры. Но, правда, начали кормить, и люди с жадностью пили горячее варево, стоя на коленях перед большими долблеными колодами для скотины. Турки хохотали и специально прибегали смотреть, как жрут из общих корыт русские волонтеры, руками выгребая плохо проваренную кукурузу.
Гавриил не ходил к этим общим корытам. От ноющей боли разламывалась кое-как перебинтованная голова; он лежал возле стены сарая, под выступом крыши, пряча от дождя раненую голову. С крыши непрерывно лило, но вода попадала на грудь, и к этому он притерпелся. Боялся только намочить повязку: ему казалось, что тогда непременно начнется горячка и он умрет.
Еду приносил полный немолодой майор в собственной фуражке. Аккуратно нес ее через всю площадь полусожженного села, на которую согнали их, из рук в руки передавал поручику. Бережно, будто чашу с водой.
— Ешьте, голубчик. Нет, нет, непременно ешьте, непременно-с! Вам силы нужны, а где же их взять как не в пище? Каждое даяние от господа, сударь мой, даже если оно и басурманское.
Майор был из пехотной глухомани, старателен, темен и добр. Маленькие жалостливые глазки его щурились, источая искреннее сострадание. Он бродил по лагерю, перевязывал раненых, сочувствовал потерянным, мягким голосом успокаивал отчаявшихся:
— Обойдется, голубчик, видит бог, обойдется все. Главное, целы, руки-ноги при вас, а прочее перетерпим. Мы же русские, голубчик, а терпеливее русского господь никого не создал. В какой народ грубость вложил, в какой — спесь несусветную, в какой — манеры и обхождение, а в нас, сударь мой, терпение свое. И все-то мы стерпим-перетерпим, и все-то будет славно, вот увидите еще, как славно, да и меня вспомните.
В тот первый день сразу после разгрома турки, прочесав лес и кого добив, а кого и подобрав, согнали плененные остатки его роты к подножью горы, но ни этого места, ни пути к нему Олексин не помнил. Шел качаясь, еле переставляя ноги, куда гнали, садился при первой возможности, а потом опять вставал, торопясь подняться, пока не ударили прикладом. Казалось ему только, что со своими пробыл он очень недолго, но кто именно были эти свои, он припомнить не мог, да и не старался.
Вскоре его и других волонтеров отделили, погнали дальше и в одном месте даже подвезли на повозке, учтя ранение. А потом снова делили, снова сортировали, снова куда-то вели, пока не привели в это брошенное жителями село. Пленных было много: смят и разгромлен был весь корпус Хорватовича.
— Они не имеют права так с нами обращаться! — горячо говорил сосед, мальчишка-юнкер. — Я читал, я знаю: это бесчестно. Бесчестно!
По юношески круглому лицу юнкера текли слезы. Текли они от страха и отчаяния, и поэтому юнкер все время возмущался, тщетно пытаясь выдать их за слезы оскорбленной гордости.
— Они считают нас за скотов! За скотов!
Гавриил ни с кем не заговаривал, отвечал односложно, а чаще молчал. Он лежал, заботясь лишь о том, чтобы не намочить повязку, отрешенный от всего остального; лежал, вслушиваясь в собственную боль, и боль эта и была сейчас его существом. Он ощущал ее не только головою, с которой сабля снесла лоскут кожи вместе с половиной уха, — он ощущал ее всем телом, всеми мышцами, суставами, костями, нервами и — сердцем. Именно там гнездилась самая мучительная из его болей, и именно ее он слушал наиболее напряженно и сосредоточенно.
А мыслей не было, и он ни о чем не думал и не хотел думать. В памяти возникали лица, отдельные фразы или ни с чем не связанные слова. Возникали, как бы просачиваясь сквозь боль, и оттого были искажены; он понимал, что они искажены, но не пытался исправить их, прояснить. Все это текло своим порядком, вмешиваться в который не было сил.
Чаще всего он видел Совримовича и слышал его тоненький, жалобный стон: «Не на-а…» А потом неизменно возникал Отвиновский, холодный и бледный, как северное небо. Они появлялись как два полюса чего-то единого, общего; он однажды с усилием подумал, что они — два полюса, но тут же забыл об этом. Брат наклонялся над ним, широко раскрыв глаза: «Больно, когда убивают? Больно?» Захар кивал издалека кудлатой головой: «Прощай, племянничек. Так ни разу дядей и не назвал, ну да бог тебе судья». Мадемуазель Лора, улыбаясь ему, льнула к Тюрберту, а Тюрберт самодовольно кричал: «Стрелять надо хорошо, стрелять, все остальное — гиль!..» — «В кого стрелять-то, сынок?» — улыбался Миллье, не умирающий, а веселый, со вкусом куривший трубку и смаковавший вино. И сразу же появлялся неправдоподобный турок с неправдоподобным ружьем. Он целился штыком в живот Олексину, и Олексин стрелял, и из лица турка брызгала кровь. Густая и теплая. «А была ли идея, была ли, была ли?» — с горечью спрашивал Совримович, и все начиналось сначала.
— Этак они нас и в рабство продадут! — горячился юнкер, и по лицу его текли слезы. — А что, с них станется. Думаете, я от страха плачу? Я от унижения гордости плачу, вот отчего, вот.
— Унижены уж, куда ниже-то, — улыбался майор. — Не о том, господа, думать надо. Такие думы терпенье точат, а в терпении сейчас спасение наше. Так что смиряйте гордыню, судари мои, смиряйте, а терпение крепите.
«Унижение, — отрывочно подумал Гавриил; он не слушал разговоров, но голоса порой сами лезли в уши. — Я тоже говорил об унижении. Унижение, уничижение. Зачем все это? Брызнет кровь — и кончатся все слова. Все!.. Сразу кончится то, что приносило боль, тревогу, беспокойство. Все кончится. Все любили толковать о справедливости, а все — ложь. Мы плаваем во лжи, как рыбы в море. А где же человек? Он ведь не может долго плавать, он либо пойдет на дно, либо его сожрут, либо он сам станет рыбой и начнет жрать других. И кровь будет брызгать с лица…»