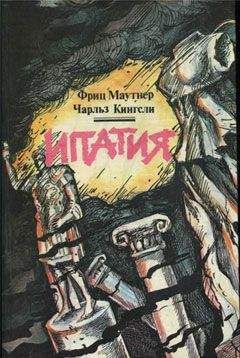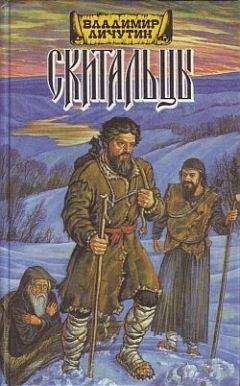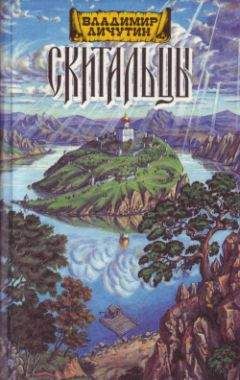Владимир Личутин - Скитальцы
– А что за гость тамотки, в пещерице? Берегитеся народу, старче! Народ гневен идет!
Паисий оглянулся и смутился: против воли, однако, солгал. Это Доната вдруг позвало наружу, чтоб разглядеть первых за весну вольных людей. Плывут, куда хотят, Господи, сами себе власть и надея, нынче, поди, домой придут, к жонке, детишкам, довольные баней, избяным теплом, всей надежной, сытой жизнью. А тут безугольник торчит на коленках перед пропастью, неведомо чего высматривая, ест чужой хлеб и своей тени боится. Чуяло сердце, не уйти от исправника, в угон гонит: окружит, затравит, засадой в ружья примет, пока не полонит. Сладко, ой сладко иным чужую душу зажать в горсти и так стиснуть ее, чтобы потекла и обревелась она.
– А что за народишко тамотки? – настаивали с реки, одерживали лодку шестами.
– Да свои, богомольщики! – отвечал Паисий, внутренне сживаясь с обманом и чувствуя близкие перемены.
Лодка покорилась воде, побежала вниз, рыбаки, лениво пошевеливая гребями, упорно провожали взглядами пещерицу, пока не скрылась она за поворотом.
А в келье поселилась тревога. До той поры внушали себе, что все обойдется, минует беда святую обитель. Но тут подперло, деваться некуда. Брат скоро исчез, в сутемках пригнал откуда-то дощаник, оставил его на узкой багряной косе под горою, знаком велел спустить бадейку, загрузился в нее, нимало не убоясь высоты, и на мосток взошел так, словно с улицы явился. Вход из бора, самый зачин подмостьев, сажени на три выворотил, как медведь, лиственничные плахи поставил стоймя, лицо даже не напружилось надсадой. Приготовился к обороне и вернулся в предел к огнищу с таким видом, будто и не отлучался, будто самое привычное для него – держать осады. Хотя какой смысл борониться, терпеть тягости? О ком печься? Кого хранить? Может, самых беспутных шишей лесовых прячут, коим давно пора болтаться на суку. Ни паспорта, ни вида, ни отпускного билета, ни иной охранной грамоты, чтобы опознать человека. Да и умел ли блаженный читать? Но он коротко и рассеянно взглядывал на Паисия и сразу удостоверялся в верности своей добровольной работы. Симагин сидел в новом лисьем куколе с рубином на маковке и каждый раз, как приближался брат, пугливо хватался за шапку и скалил зубы. Симагина давила, изнуряла чужая сила, и вынужденная неволя была невыносима ему. Жалея Доната, Симагин мысленно уже не раз торопил погоню, досадовал, что где-то замедлила, застряла она. Пьют небось лоботрясы, волынят, как барщину отбывают. Но ежели волка решил загнать, то поспешай, сердешный, не жалея ног, ворон попусту не ловит. Ему-то, Симагину, чем грозит? Ничем не грозит. Лишь из-за сотоварища впутался, и этот узел рубить надо. Переменило Доната, совсем вылинял: в Архангельском замке сидели – ему слова поперек не скажи, а нынче квелый, трухой набитый. Из такого тюфяка победного воина не слепишь. Симагин часто оборачивался на вход, но чело пещерицы оставалось тускловато-серым, тихо меркнущим, там не маячил долгожданный гость. В своей досаде Симагин обронил из памяти, что брат разобрал мосток и сейчас все они отгорожены от сладкой воли пропастью.
– Что ты дерганый какой-то? – отвлекаясь от молитвы, заметил Паисий. Впервые, советуясь с Господом, он не плакал, был бледен и торжествен ликом, в старце вызревало, крепилось то давнее желание, которому отшельник противился столько лет.
– А тебе что? Подкусывают? Сыщик? – вспыхнул Симагин, наконец нашедший того, на ком можно сорвать досаду. Но вовремя спохватился, уловил зоркий догляд брата и свел голос до резкого, свистящего шепота: – Помощник Бога на земле? Я смеюся: ха-ха! Нашел должностишку. Умен, бобер. Молчи, пред кем стоишь, обманщик. Пред самим богом стоишь! Ослепни! Сгинь!
– Ну что ты поднялся, сынок? Ежели ты бог, то сделай чудо, – кротко улыбнулся Паисий, нисколько не убоясь гнева. – Ты сделай чудо, сыми ковы. Сейчас придут вязать нас, а ты сделай чудо, сотвори, коли бог...
– Враки одни, враки. Я много земель прошел, хранцузских и арабских, я всякого народу повидел, и никто не встречал распятого... Не было его, не бы-ло-о... И одно в рассуждение и толк идет: одни работают, а вы их хлеб ядите. Вы и здеся с рабом. Вы без раба не можете. Ума человека лишили и понюжаете, запрягли скотинку!
– Опомнись, сынок! Душа твоя гордыней ослеплена. Ты видишь, как я плачу по тебе, а слез нет. Иссохли до дна, ибо слова твои похожи на камни, коими варвары разбивали головы невинных младенцев.
Схимник споткнулся, замолчал, склонил голову, мягкий свет от умирающего костра упал на серебряный венчик волос вокруг плешки, похожей на тонзурку, и он стал золотым, как бы сияние вспыхнуло. Он умолкнул, чтобы последнее слово осталось за Симагиным, чтобы хоть этим снять свой грех за пустые слова и ублажить страдающую в гордыне душу. Шутка ли, коли человек богом назвался самовольно и пошел Русью с посохом паломника. Все бы ниц должны пасть пред ним, а после толпами двинуться следом, по всем дорогам, сливаясь в единую великую реку, но он, Симагин, все так же одинок, и даже те немногие ученики из московской прислуги уже давно забыли своего безумного наставника, и следственное дело, подшитое в прочие связки, навсегда утонуло в канцелярских могильниках.
Дворянин и в схимнике не стирается, он сохраняется в тонких, остроконечных перстах, в мягкости и благородстве обличья, в тех речениях, что легко срываются с искусного языка. Это дворянское чуял бывший крепостной Симагин и потому ненавидел схимника, как притворщика, убежавшего от кары. И, нацеливаясь набрякшим кулаком в сияющую плешку, Симагин вскричал, забывшись:
– С молитвою Христовой сколько вас, Июд? Народ в рабстве, не вздохнуть! В переделку надо пустить, в переплавку, чтоб с корнем выжечь рабство. Чрез вас мы рабы-то, чрез вас и Христоса вашего. К железной штанге прикованы цепями, как арестанты, и тащимся до гроба. Ты слышишь, старик? Одна мышка ест мало, но мыши, когда расплодятся, поедают все. Сколько вас, мышей, с именем Христовым! Обманщики, вруны... Молчи, не хочу слышать. Я еще вернуся с мечом, обагренным кровью, и умоетесь все! Будет чудо!
И снова Симагин вознес над стариком кулак, не с намерением ударить, но для острастки, и, забывшись, не поймал легких звериных шагов брата, не успел отпрянуть – тот неслышно явился за спиною, подхватил Симагина за ворот кафтана и, сунув пару тычков коленкою, кинул в дальний угол пещерицы.
– Хвалишься, всех любишь! – не успокаивался Симагин. – И меня возлюби. Я тебя убить хочу, а ты возлюби.
– Ой-ой-ой, – покачал головою отшельник. – Ну как язык не онемеет?
– Возлюбишь, старик, когда резать придут?
– И тебя люблю, заблудшего сына, за болезную гордыню твою. И неуж не убоишься, не дрогнет сердечко твое пред судом, когда призовут к ответу? Там грешника люто привечают и к допросам водят и один день покажется за триста лет.
– Я бог, я бог! Мне ли чего боятися, – без прежней мощи в голосе воскликнул Симагин и с испугом поглядел на меховой куколь, валявшийся возле порога в келейку. И снова суеверно екнуло в груди: сронили честь, стоптали под ноги уж в который раз. Дикое место, и чрез диких людей сквозь Сибирь бреду, как сквозь пустынь...
– Вы не гневайтесь на него, – вдруг подал голос Донат, доселе молчавший. – Вы рассудите, отец: а врага как? Вот нагрянет он и почнет вязать.
– И врага полюби! – не колеблясь, ответил Паисий. – Он на тебя с оружьем, с пристрастием и гневом, а ты на него любовью. Пускай идет, пусть. Он сатанеть будет, а ты любовью его.
– Но враг вот он, на пороге, я слышу его. Чего ж тогда борониться? Встретим с объятьями.
– А ты готов, сынок? Вдруг в святом скиту прольется кровь и место Божье проклянут, как тогда? Ты готов безропотно страдать, любя?
– Непролитая кровь гнетет, – вдруг признался Донат, сказал с таким отчаянием в душе, будто коросту там содрал. Голос дрогнул и выдал близкую слезу. – Невмочно гнетет, невмочно. Утишиться не могу, отец, – почти шепотом досказал Донат и понурился.
Безмерная тоска скитальца достигла сердца отшельника, ударила в самый родник, отворила его, и легко, обильно заплакал Паисий.
– Вижу, вижу, что Божий человек. Есть на лике твоем печать нестираемая. Смири гордыню, неведомый странник. Буду о том Бога молить.
Отшельник встал на колени, молясь перед Спасителем, и скоро по половицам кельи побежал ручеек слез, заструился меж плахами, звонко закапал, пролился в озерцо слез на каменистое ложе.
Симагин из дальнего угла сверкал глазищами и плевался.
Брат опустился подле отшельника на колени и легко, неслышно приобнял его за острые стариковские плечи, обтянутые черным подрясником. Потом, решившись, сходил к пустому гробу, принес мантию, накинул на схимника. Паисий рыдал, тряслося его худенькое, изморенное тельце, и, как живой, вздрагивал на его спине вышитый череп.
И грянул гром небесный.
Растворились своды, прокатилась колесница громовержца, высеклись молоньи из стальных ободьев, осветили ущелье, пещерицу и помертвелые лица скитальцев.