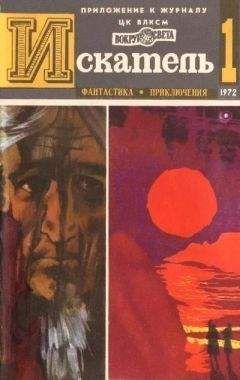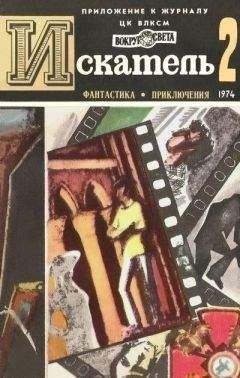Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
О счастье мимикрии, волшебство перевоплощений!
Черное сукно мундира, желтые галуны, золотое шитье фуражки!
Адмирал флота Швейцарии!
Бездумные пенители моря, разве кто-нибудь из вас слышал такой гул волн людского океана, что плещется у ног Ковшука, полнейшего контр-адмирала? Ведом ли вам соленый ветер порока, носящийся быстрыми смерчами по углам его гавани?
А ярость абордажных схваток у дверей ресторана?
Сокровища Флинта, отнятые чаевыми у напуганных посетителей?
Неслыханные материки и острова, открытые в меновой фарцовке с доверчивыми туземцами, приплывшими на черных пиро́гах гостевых «Волг»!
Гидрографические исследования в мраморном сортире…
Друг мой Ковшук, соратник мой и продолжатель дела Ушакова и Нахимова, я пришел к тебе побалакать маленько, дорогой мой антиадмирал, наставник мой и учитель, товарищ старший швейцар. Не хмурь строго свои усиные брови, не томи отчужденностью сомкнутых несуществующих губ, не дави мрачной вислостью мясных бледных брыльев!
Ты ведь старый, умный и злой, ты ведь знаешь: дело не в том, что ты Ковшук, а я Хваткин, что много лет мы не виделись, что ты – швейцарский адмирал, а я – профессор бесправия, что мы, наконец, оба патриоты, товарищи по партии и советские люди.
Мы ведь, Ковшук, кромешники. Мы с тобой, Семен, опричники – и от этого никуда не денешься. Мы вроде муравьев или пчел – у нас воля, разум и цель одни. Вроде бы каждый в отдельности сам за себя, а у муравейника или роя задача общая – выжить. Мы живем сообща, а если умираем – порознь.
– Да, наверное… – ответил на мои мысли Ковшук. А я хлопнул его по плечу и предложил:
– Ты, Сеня, смотри на меня как на пенициллиновую плесень – вроде бы противно, однако очень полезно.
Он важно кивнул своим адмиральским фургоном и повел в маленькую комнатку за гардеробом.
И остальной адмиралитет: гардеробщики, придверники и сортирные дядьки, славные лысые красавцы – швейцарские гвардейцы – смотрел на меня искоса, с уважением и опаской, поскольку вел меня к себе в боевую рубку, в их грешная грешных, сам старший контр-адмирал.
Ох уж эта мне швейцарская конфедерация! Запомнят меня, к сожалению, эти суки хорошо – как сфотографируют. Это ж все наш люд: пенсионный, запасной и уволенный по аморалке.
Да выхода другого у меня все равно не было. Не было у меня времени для конспиративных встреч с Семеном – мой зятек Мангуст выглядел очень быстрым парнем.
В боевой рубке кипела работа, готовились к ночному штурму. Осанистый, похожий на кардинала швейцар и юркий чернявый официант из ресторана делали «сливки». Вершина винодельческого гения, ослепительная вспышка алкогольного мэнифэкчуринга – вот что такое «сливки».
Из всех рюмок, стопок, бокалов, стаканов, фужеров, бутылок – все недопитое за столиками огромного ресторана сейчас сливали в цинковый бак. В нем бурлили струи сухого вина, выдохшегося шампанского, сгустки ликеров, бессильный отстой коктейлей, тяжелая жижа дрянных портвейнов и керосиновая радуга опилочной водки. Туда же – кружка коричневого сиропа из пережженного сахара и бутылка технического спирта.
Просим, «сливки» готовы!
Что вы любите? Мускат южнобережный? Шампанское брют? Кофейный ликер или мараскин? Рижский бальзам или кальвадос? Джинфис? Виски?
Что еще пьют настоящие мужчины и женщины, любители сладкой жизни, прожигатели, моты, весельчаки, ночные гуляки?
Все это вы можете получить – стакан за два рубля – у адмирала, когда начнете после полуночи валом ломиться в его окошко, поскольку во всем огромном городе даже за миллион нельзя купить бутылку нормальной выпивки.
Тогда и «сливки» из адмиральских подвалов урожая 1979 года тоже очень хорошо пойдут.
– Ступайте, ребятушки, я тут сам закончу, – отпустил своих подручных виноделов Ковшук. Только крикнул вслед кардиналу: – Степа, возьми еще залупенчиков, щас пьянь с ресторана повалит, сучек своих начнет баловать!
Кардинал Степа солидно кивнул, а Ковшук заботливо напомнил:
– Ты эти тюльпанчики дешевле чем по трешке не сдавай, они и до завтра постоят…
Захлопнулась дверь, и мы долго молча смотрели друг на друга. Не знаю, что уж там мог высмотреть Ковшук в моей костистой роже, но мне показалось, что его курьезные усы, приклеенные Создателем над глазами, горестно приспущены. А глаз не видать – утонули в одутловатых буграх отечной белой морды.
– Как говорится, друзья встречаются вновь, – тяжело сказал Ковшук.
– И так говорится тоже, – кивнул я. – Хотя, если по справедливости, надо сказать: встреча учителя и ученика…
– Какой я тебе учитель? – развел руками Ковшук. Ладони были у него большие и белые, как у утопленника. – Ты, Паша, такой прыткий, тебе нечего было учиться…
– Не скромничай, Семен. Один поэт написал: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться…»
– Ну, стихов я, конечно, не читаю, а кое-чему у тебя поучился.
– Это ты правильно сделал, Сема. Я – умный… У тебя есть что-нибудь выпить?
Семен перевел взгляд на бак со «сливками», но я ему и рта открыть не дал:
– Сема, Сема, я дорогих напитков не пью! Мне чего-нибудь попроще. Водочки, например.
Ковшук закряхтел, ерзнул на стуле, но я перехватил его взгляд, я уже знал, что бутлегерская ночная водка лежит в тумбочке за столом, проворно вскочил, распахнул фанерную дверцу, выхватил из пирамидки верхнюю бутылку и с доверчивой ласковой улыбкой протянул хозяину:
– Давай, Семен, шарахнем за встречку, за долгое расставание, за будущую совместную жизнь…
Ковшук сердито пошевелил усатыми бровями, досадливо свел их в волосяной хомут поперек хари, а потом махнул рукой:
– Да-авай…
Глупость человеческой тщеты! Безумная погоня за выдуманными регалиями и отличиями – орденами, степенями, званиями! Вот настоящий знак отличия – взять на глазах у Ковшука без спроса его бутылку. Всякого другого – не меня – он разомкнул бы на части.
Ковшук разлил водку по стаканам, помотал удивленно головой:
– Ох, Пашка, не человек ты – камикадзе.
Я поднял свой стакан старорусской водки, приготовленной «по древним рецептам из отборного зерна лучших сортов пшеницы», посмотрел, как на свету текут по стенкам жирные капли нефтяных масел, и сказал душевно:
– Мы с тобой оба камикадзе, Сема. Чтобы убить врага, мы не пожалеем жизни. Жизни другого врага. Или, может, и не врага, а просто какого-нибудь дурака. Мы с тобой, Сема, особые камикадзе – убивая врагов, мы всегда остаемся живы…
– Наверное… – пожал плечами Ковшук, чокнулся со мной и выпил. И я бережно взял в ладони свой сосуд, стеклянную свою братину, граненый мутный кубок, грязноватую чару, и перелил в себя палящую влагу – чудо советской алхимии, научившейся извлекать отборную пшеницу из сосновых опилок и говенной нефти.
Взбухла от ненависти ко мне печень, захлебнулась на миг горючим, как перелившийся карбюратор, и заревела снова, понесла меня, легкого и сильного. Я слышал гул спиртового пламени в себе, свист бешено мчащейся крови, желтые огни мелькают перед глазами, исчезают по бокам.
– Слыхал я, Пашуня, большим ты стал человеком, – сказал Ковшук. – Расскажи, как поживаешь, похвались успехами.
– У нас с тобой успехи одинаковые, Сема. Как в песне: «…сидим мы вдвоем на краю унитаза, как пара орлов на вершине Кавказа…»
– Песни такой не слыхал, а на жизнь свою не жалуюсь. Скриплю потихоньку, полпенсии дают, зарплата да приработок капают…
Отворилась дверь, и давешний юркий официант впер большой таз мясных объедков.
– Семен Гаврилыч, пора закуску варганить, скоро народ пойдет. Я пока начну?
– Не надо, сынок, ты иди, я тут сам управлюсь. Вы хлеб нарезали?
– Конечно, вот сумка.
Ковшук взял со стола кухонный, очень острый нож и с удивительным проворством стал шинковать в тазу все эти куски недоеденных котлет, шашлыков, люля, отбивных, ромштексов, антрекотов, цыплят, бифштексов, перемешивая все это с крутым поносом бефстроганова. Казалось, он забыл обо мне, ловко раскладывая на подносе куски хлеба и пригоршнями вываливая на них мясное крошево.