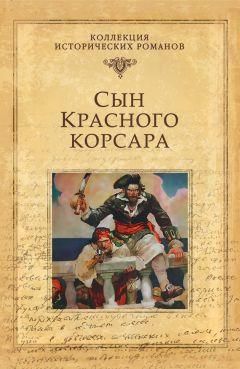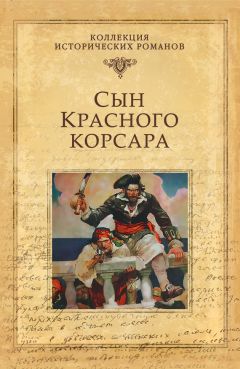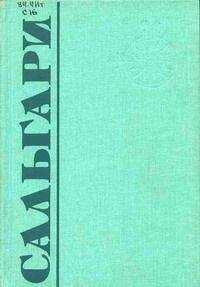А. Сахаров (редактор) - Александр I
Но ведь это гибель…………………………………… Не то, что народ тёмен, беден, голоден, раб, а то, что он сделал человека Богом, – погибель России, погибель вечная!……………………………………
– Чем же царь виноват? Ты сам говоришь: народ…………………………………… – начал было Матвей Иванович, но теперь уже Сергей не дал ему говорить.
– Нет! Народ не знал, что делает, а он знал. «Царство Божие на земле, как на небе», – это он сказал, а делал что? Благословенный, Спаситель России, Освободитель Европы, – что он сделал с Россией, что он сделал с Европой? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и не им ли потом она также жестоко удавлена?…………………………………… Самое великое стало смешным, самое святое кощунственным…………………………………… Этого нельзя простить. Пусть прощает, кто может, – я не могу…………………………………… Да, да, молчи, знаю сам: «не убий». А вот убил бы, убил бы тут же на месте……………………………………
Голицын не видел лица его, но по голосу угадывал, что оно ужасно, так же как намедни, когда он говорил с ним о Гебеле; и всего ужаснее то, что, милое, доброе, детское, оно могло быть таким.
– Серёжа, Серёжа, что ты? Во Христа веруешь, а можешь так! – воскликнул Матвей Иванович.
Сергей, закрыв лицо руками, опустился на лавку в изнеможении, как будто опять раздавленный тою же, как давеча, страшной тяжестью.
Оба замолчали, потом заговорили шёпотом. Матвей Иванович плакал, а Сергей обнимал его, утешал, успокаивал с такой нежностью, что трудно было поверить, что это тот самый человек, который за минуту говорил об убийстве.
Была полночь; луна – в зените; свет ещё ярче, тишина ещё тише, и ожидание, напряжение, томление ещё нестерпимее.
И вдали опять, как давеча, послышалось:
Моя матинька, моя голубонька,
Як мени жити, як доживати?
Но печальная песнь оборвалась, и вдруг зазвенела – весёлая, буйная, звонкая, как русалочий смех:
Та внадився журавель
До бабиных конопель…
И всё на земле и на небе, как будто этого только ждало, – вдруг тоже запело, зазвенело, ответило смехом на смех, – весь яркий свет был звонкий смех.
– Ничего не будет! Ничего не сделаем! – плакал плачущий. «Будет! Будет! Сделаем!» – смеялось всё над плачущим.
И с такой радостью, как ещё никогда, повторил Голицын:
– Будет! Будет! Сделаем!
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Предстоящее свиданье с государем не давало покоя Голицыну. Получив наконец так долго жданный отпуск и уезжая из Петербурга, он был почти уверен, что свидания не будет. Но тотчас же по приезде Голицына в Киев генерал Витт, начальник южных поселений, вызвал его в корпусную квартиру, в Елисаветград, и объявил высочайшее повеление не отлучаться из Киевской губернии, не испросив на то разрешения губернатора, так как государь во всякую минуту может потребовать его к себе. «По всей вероятности, – прибавил Витт уже от себя, – свидание назначено будет во время осенней поездки императора на юг».
Если бы кто-нибудь сказал ему: «Для покушения на жизнь государя ваше свидание с ним случай единственный», – то он не знал бы, что ответить. «Пусть не я, а другой», – это не только сказать, но и подумать было стыдно, а между тем он чувствовал, что на государя рука у него не подымется: никогда не забудет он того взора, которым обменялись они над гробом Софьи; чувствовал, что тут неладно что-то, не решено окончательно, и как в последнюю минуту решится, ещё неизвестно.
Вскоре после ночной беседы Сергея Муравьёва с братом получена была в Василькове весть о доносе Шервуда и об открытии заговора. Муравьёв и Бестужев просили Голицына съездить в Тульчин, местечко Подольской губернии, где находилась главная квартира 2-й армии, чтобы предупредить двух директоров тамошней управы, Юшневского и Пестеля.
Голицын поехал в Тульчин. Пестеля там не застал, а Юшневский,[281] узнав о доносе, сказал:
– Это всё от генерала Витта идёт. Вы его знаете?
– Знаю.
– Ну что он, как?
– Претонкая бестия!
– Вот именно. Вы ведь с ним тоже приятели: всё лезет к нам в общество; в удостоверение своей искренности назвал уже нескольких шпионов: в том числе капитана Майбороду, который служит у Пестеля.
– Ради Бога, Юшневский, скажите ему, чтобы не сближался с Виттом: ведь это гибель!
– Да уж сколько раз говорил. Поезжайте сами к нему, Голицын, расскажите всё; может быть, вам больше поверит…
Голицын хотел ехать тотчас в местечко Линцы, где стоял Пестель, но Юшневский сообщил ему, что тот уехал в Бердичев, – обещал написать, чтобы скорей возвращался, и просил Голицына подождать в Тульчине.
Юшневский понравился Голицыну: в тонком, с тонкими чертами, лице – невозмутимое спокойствие, тихая ровность, тихая ласковость. Добродетельным республиканцем, древним стоиком называли его товарищи. «Вот на кого положиться можно: за ним как за каменною стеною», – думалось Голицыну. Почти все остальные члены общества казались ему детьми; Юшневский – взрослым; и никогда ещё не чувствовал он так зрелости, взрослости самого дела.
Юшневский был любим всеми. В 30 лет – генерал-интендант 2-й армии; начальник штаба, генерал Киселёв, был ему приятелем; главнокомандующий, граф Витгенштейн, отличал его за деловитость и честность. Ему предстояла большая карьера.
Голицын остановился в доме Юшневского. Дом окружён был садом; перед окнами – свежие тополи, как занавески зелёные; в самые знойные дни свежо, уютно, успокоительно и, кажется, вся эта свежесть – от свежей, как ландыш, хозяйки, Марии Казимировны.
Всё, что нужно для счастья, было у Юшневского, – любовь, дружба, довольство, почести, – и он покидал всё это вольно и радостно.
– А знаете, Голицын, – сказал однажды после игры на скрипке (был хороший музыкант) с ещё не сошедшим с лица очарованием музыки, – я этому доносу рад: теперь уже, наверное, начнём, нельзя откладывать. Ведь всё равно умирать, – так лучше умереть с оружием в руках, чем изнывать в железах…
– А вы в успех верите? – спросил Голицын.
– По разуму, успеха быть не может, – возразил Юшневский, – но не всё в жизни по разуму делается. Говорят, на свете чудес не бывает, а 12-й год разве не чудо? То была не война, а восстание народное. Мы продолжаем то, что тогда началось; не нами началось, не нами кончится, а продолжать всё-таки надо…
«А ведь всё-таки надо начать», – вспомнились опять Голицыну слова Рылеева, и опять подумал он: «Да, здесь начнут».
В первый же день по приезде его Юшневский сообщил ему, что один из старейших членов общества, Михаил Сергеевич Лунин, желает повидаться с ним по какому-то важному делу.
Лет восемь назад, когда Голицын служил в Преображенском полку, встречался он с блестящим кавалергардским ротмистром Луниным. Много ходило слухов о безумной отваге его, кутежах, поединках и молодецких шалостях: то ночью с пьяной компанией переменял на Невском вывески над лавками; то бился об заклад, что проскачет верхом голый по петербургским улицам, и уверяли, будто бы выиграл; то прыгал с балкона третьего этажа, по приказанию какой-то прекрасной дамы. Но больше всего наделал шуму поединок его с Алексеем Орловым. Однажды за столом заметил кто-то шутя, что Орлов ни с кем ещё не дрался, Лунин предложил ему испытать это новое ощущение. От вызова, хотя бы шуточного, нельзя было отказаться по правилам чести. Когда противники сошлись, Лунин, стоя у барьера и сохраняя свою обычную весёлость, учил Орлова, как лучше стрелять. Тот бесился и дал промах. Лунин, выстрелив в воздух, предложил ему попытаться ещё раз и хладнокровно советовал целиться то выше, то ниже. Вторая пуля прострелила Лунину шляпу; он опять выстрелил в воздух и, продолжая смеяться, ручался за успех третьего выстрела. Но тут секунданты вступились и разняли их.
В удальстве Лунина было много ребяческого, но близко знавшие его уверяли, что он бесстрашием не хвастает. В походе 12-го года слезал с лошади, брал солдатское ружьё и становился в цепь застрельщиков, нарочно под самый огонь, для того, чтобы испытать наслаждение опасностью. А в мирное время, когда долго не было случая к тому, скучал, пил, злился, буянил и, наконец, уезжал в деревню, где ходил на волков с кинжалом или на медведя с рогатиной. Ходил и на зверя более страшного.
Однажды великий князь Константин Павлович отозвался так обидно об офицерах кавалергардского полка, в котором служил тогда Лунин, что все они подали в отставку. Государь был недоволен, и великий князь, в присутствии всего полка, извинился и выразил сожаление, что слова его показались обидными, прибавив, что если этого недостаточно, то он готов «дать сатисфакцию». Лунин, пришпорив лошадь, подскакал к нему, ударил по эфесу палаша и воскликнул: – Тгор d'honneur, votre altesse, pour refuser! (Слишком много чести, чтоб отказаться, ваше высочество!)
В 12-м году служил он в ординарцах у государя и сначала пользовался благоволением его, но потом впал в немилость за вольнодумные суждения о Бурбонской монархии. По возвращении гвардии в Петербург, будучи старшим ротмистром, ожидал производства в полковники; но производства в полку не было вовсе. Узнав, что это из-за него, сел на корабль в Кронштадте и уехал во Францию.