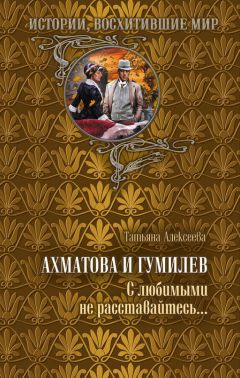Пушкин и Гончарова. Последняя любовь поэта - Алексеева Татьяна Сергеевна
— Вы могли отправить письмо в полк, где служит ваш брат, — сказал Бенкендорф уже более жестко. — Я не думаю, что Лев Сергеевич — настолько бесчувственный человек, что не ответил бы на него как можно скорее и не сообщил своим родным, как у него обстоят дела.
— Лев совсем не бесчувственный, — возразил Александр, все еще стараясь делать вид, что не понимает истинной причины недовольства Бенкендорфа. — Но, к сожалению, немного легкомысленен, поэтому мог случайно забыть ответить или отложить ответ на потом… Знаете, как это бывает?
По лицу Александра Христофоровича было видно, что как раз этого он не знает, потому что всегда делает все необходимые дела вовремя и не забывает ни о чем важном. Но Пушкину уже не оставалось ничего другого, как продолжать рассказывать свою версию событий.
— Кроме того, почта в такие места идет очень долго и может вообще не дойти, — говорил он уже менее уверенно. — Письмо может затеряться в дороге. К тому же Лев мог написать нам, что у него все в порядке, чтобы нас успокоить, а на самом деле ему могла требоваться какая-то помощь… Я хотел собственными глазами убедиться, что он действительно не бедствует. Но его полк наступал все дальше на юг, я никак не мог его догнать, и вот в итоге вышло так, что я уехал… слишком далеко.
Последняя фраза получилась у него совсем беспомощной, и Александр Христофорович снова усмехнулся — теперь уже более явно. Пушкин замолчал, предчувствуя окончание «светской беседы» и начало менее приятного разговора. Бенкендорф, как и следовало ожидать, не проникся его беспокойством о младшем брате и не поверил в столь трогательную заботу о нем. Поэт напрягся и приготовился выслушивать в свой адрес не самые лестные слова. «Главное — сдержаться и не ответить ему какой-нибудь колкостью, — напомнил он себе. — Надо просто все вытерпеть и признать свою вину. Может, тогда и наказания никакого не будет. Заставят пообещать, что больше я никуда не уеду, — и все».
Но обычная проницательность, раньше почти никогда его не подводившая, в этот раз отказала ему. Бенкендорф ответил все так же спокойно, и в его голосе как будто бы даже зазвучали дружеские нотки.
— Вы, наверное, получили на Кавказе много ярких впечатлений? — спросил он, усаживаясь в свое огромное кресло и придвигаясь вплотную к столу. — И видели там много интересного, да?
— Ну… да, — удивленно кивнул Пушкин, не ожидая такого поворота беседы.
— Думаю, все это новое вы где-нибудь опишете? — продолжил тем временем свои расспросы глава канцелярии. — Или, может быть, уже описали?
— Да… — Поэт окончательно растерялся, но все же сумел взять себя в руки и придать своему лицу серьезное выражение. — Кое-что уже написал и собираюсь еще…
— Очень рад, — сказал Бенкендорф и, сделав паузу, уточнил: — За ваших поклонников.
Пушкин чуть заметно пожал плечами. В том, что глава III отделения не относится к любителям его книг, он и раньше никогда не сомневался. Да тот и сам не скрывал своего равнодушия и ко всей литературе, и к книгам поднадзорного ему Пушкина. Странно было лишь то, что Бенкендорф вообще заговорил о его стихах не с точки зрения их «крамольности», а просто по-человечески. Этого Александр ожидал меньше всего и сразу же заподозрил какой-то подвох.
— А вы на Кавказе не думали о том, что все ваши почитатели горевали бы очень сильно, если бы с вами там что-то случилось? — теперь уже с нескрываемой издевкой в голосе спросил Бенкендорф. — Если бы вас там убили и они больше никогда бы не прочитали ни строчки ваших новых стихов?
Это был по-настоящему сильный удар, и он попал в цель. О том, как читатели — да и не только читатели, а более близкие ему люди тоже — пережили бы его смерть, Пушкин и правда никогда особо не задумывался. Ни в прошлые годы, когда у него случались ссоры, заканчивавшиеся вызовами на дуэль, ни теперь, во время поездки по Кавказу. Он не ожидал такого вопроса, а потому и не подготовил заранее достойного ответа.
— Я думаю, читатели моих книг сумели бы пережить эту трагедию, — ответил он чуть более резко, чем обычно говорил в этом кабинете.
Глаза Александра Христофоровича победно блеснули — именно такого ответа он и ожидал от своего знаменитого посетителя.
— То есть вам не было бы их жаль? — уточнил он. — Наверное, вам вовсе нет до них никакого дела?
Больше всего Пушкину хотелось подтвердить, что ему действительно нет особого дела до тех, кто читает его стихи и поэмы. Но такой ответ прозвучал бы чересчур грубо, а ссориться с Бенкендорфом ему, несмотря ни на что, не хотелось. Тем более что кое в чем начальник III отделения был прав — этого поэт не мог не признать. Его отношение к читателям и правда было не слишком чутким.
— Мне, разумеется, было бы жаль, если бы кто-то из-за меня расстроился, — сказал он, снова пожимая плечами. — Но это моя жизнь, и как ею распорядиться — решаю я сам. Другие люди тут ни при чем, это не их дело.
Глаза Бенкендорфа блеснули победным огнем. В том, что и этот ответ он предвидел и именно к нему вел разговор с самого начала, можно было уже не сомневаться.
— Вот в этом вы ошибаетесь, Александр Сергеевич, — произнес он медленно и с торжеством в голосе. — Ваша жизнь вам не принадлежит, как бы вам этого ни хотелось. Я бы мог вам напомнить, что жизнь христианина принадлежит Богу или что жизнь дворянина принадлежит императору, которому он давал присягу. Но я не буду об этом говорить, потому что уверен: на самом деле вы это помните. Я скажу о другом. Жизнь одаренного человека не может принадлежать ему еще по одной причине. Он обязан сделать все, что может сделать благодаря своему дару. Если человеку дано писать, его долг — написать как можно больше талантливых книг. И пока он этого не сделает, пока не напишет все, что ему предназначено написать, распоряжаться собой ему нельзя. Рисковать жизнью в его случае — особенно большое преступление. Перед ним самим и перед почитателями его таланта.
На этом Александр Христофорович замолчал. В первый момент Пушкин решил, что его собеседник просто сделал паузу в своей речи, и ждал продолжения выговора, но шли секунды, качался маятник часов у стены, а Бенкендорф не произносил больше ни слова. Стало ясно, что разговор окончен — не только разговор об обязанностях творческих людей, но и вообще вся встреча с начальником канцелярии. Теперь провинившемуся Александру самому необходимо было что-то сказать, но это был один из тех редких случаев, когда он не находил нужных слов. Мысль, высказанная Бенкендорфом, была для него новой, и ее следовало обдумать в более спокойной обстановке. Внутренний голос робко предсказывал Пушкину, что когда-нибудь, позже, он согласится с ней и признает правоту Александра Христофоровича. Но пока он был не готов менять свое мнение. Однако и молчать дольше было не совсем вежливо — это уже граничило с оскорблением.
— Я готов понести любое наказание за свой проступок, — ответил наконец Пушкин, не пытаясь больше перехитрить собеседника.
— Похвальный порыв, — отозвался Бенкендорф и неожиданно улыбнулся — теперь уже не насмешливой, а почти приятельской улыбкой. — Но нам будет достаточно, если вы дадите слово не «заезжать слишком далеко».
— Слово дворянина, — без возражений выполнил его просьбу поэт.
Бенкендорф удовлетворенно кивнул и поднялся из-за стола. Пушкин тоже поспешил встать. Их очередная встреча была окончена, и, хотя расстались они, как всегда, довольно холодно, Александр вышел из императорской канцелярии со странным чувством: ему казалось, что в их отношениях с Бенкендорфом произошла какая-то маленькая, едва заметная перемена. Причем перемена эта была, как ни странно, в лучшую сторону. Но о том, в чем именно она заключалась, он пока не думал. Ему было не до того, надо как можно быстрее готовиться к поездке в Москву, нанести там визит семье Гончаровых и узнать, каковы теперь его отношения с родителями Натальи. Это было гораздо важнее Бенкендорфа, о словах которого Александр пообещал себе поразмыслить «как-нибудь потом».
Через неделю, прибыв в Москву и сидя в экипаже, несшем его к Гончаровым, он забыл и о Бенкендорфе, и о сделанном ему выговоре. Осталась только радость из-за того, что ему не назначили никакого наказания и он мог совершенно свободно заниматься своими делами. Но и она исчезла, когда Пушкин оказался перед дверью особняка, за которой от него прятали его любимую. Что толку от того, что в Петербурге его «помиловали», если сейчас скажут, что для него хозяев нет и никогда не будет дома?