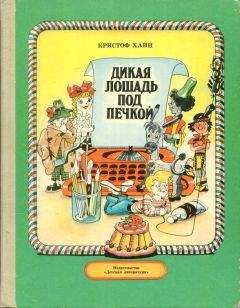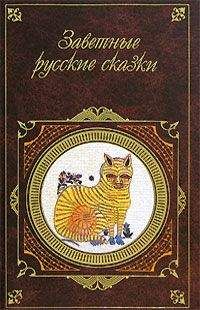Сергей Кравченко - Яйцо птицы Сирин
Следующим утром поскакали в Александровскую слободу. Добрались только к вечеру, преодолев несколько грязевых озер. Тут оставили все лишнее, и совсем уж собрались ехать дальше, хоть и в ночь, но пришлось задержаться. Во-первых, прискакал князь Курлятьев, — дали ему час напиться, закусить да умыться. Во-вторых, приехал посыльный от князя Иван Иваныча с доносом об измене. И хорошо, хоть измена случилась не среди Москвы, и не приходилось тащиться обратно.
— Измена у нас, государь, как говорится, — с доставкой на дом. — МБ хихикнул и голосом Ивана приказал привесть сюда вора Лариошку Курлятьева. Хоть и не умытого!
Стали читать донос, разбирать дело. И не столько из доноса, сколько из пояснений Мелкого Беса выяснилось вот что.
— В прошлый четверг пьяный Курлята самовольно поехал со священным посохом на Кукуй. Следовало умельца во дворец вызвать, но его будто бес... — чужой какой-то, — МБ чуть не перекрестился, — попутал!
Там Курлята добавил к обеденной дозе чарку мюнстерского крепленого и, не таясь, вывалил святыню пред нечистые очи. Объяснил немцу, что надо сбить рога с этой палки. Немец без проволочки, без крестного знамения, без православного смирения и малейшего смущения взял пилу по металлу и, насвистывая под нос лорелейный мотивчик, в два маха отпилил Т-образный верх посоха. Принял серебряную монетку и налил еще по чарке.
Далее, препохабно христосуясь с поганцем, Курлята разболтал почти все дело. Что посох — бывший волшебный, а теперь обыкновенный, имел единороговый набалдашник. Теперь обрезок надо смолоть в муку, а потом на этой муке — тсс! — сам царь колдовать будет! Для баб делать приворотное зелье.
— Ja-a! — sehr gut! — немец снова налил, — тафай schon jetzt werden wir mehlen!
Здесь же, после очередного тоста за русско-германскую дружбу, раскрошили роговой стержень молотом-ручником. Осколки реликвии разлетелись по неосвященным углам. Кое-как собрали их в ступку, с адским хохотом толкли, трясущимися руками сыпали в табачную мельничку, мололи под пение на иностранном языке.
Теперь у наместника и наследника Иван Иваныча не праздник получается, а сплошная головная боль. Чем гулять по столице, разъезжать с крашеными яйцами, да куличами дружков угощать, нужно устраивать немцу несчастный случай на работе, чтоб не грешил кузнечным делом в Светлое Воскресение, и дознаваться, не расползлась ли тайная весть.
Итак, Курлята схлопотал-таки казнь. Видно судьба его была такая — неотвратимая.
Грозный задумался на минуту, какую кару учинить. Будь это в Москве, пьесу играли бы в крупном формате: с предварительным оглашением легенды преступления, с подобием суда в думском присутствии, с подготовкой сцены, с выведением вора, с покаянием его на все четыре стороны. Далее последовало бы усекновение болтливого языка, медленное членовредительство, посадка в котел или на кол, секира по шее иль на шею петля. А еще лучше было бы сыграть сцену из греческой жизни. Будто бы Курлята — Одиссей или Язон, и нападают на него птицы-сирены. Баб подходящих можно в перья одеть, или Машку-ведьму раздеть Цирцеей, а бояр нарядить свиньями...
Тут розовые мечтания царя прервал МБ.
— Иван! Ехать надо, Иван!
— А Курляту как?...
— Секи ему язык, куй в железо и поскакали, время не ждет!
Царь привык повиноваться своим бесам. МБ в третий и последний раз спас никчемную жизнь князя Лариона.
Обрезание по-русски закончили в полчаса. Обычно это операция хлопотная, но тут пациент был полностью парализован водкой и заплечный стоматолог справился в один присест.
Чтоб вы знали, — язык у нас усекается двумя способами, вернее, двумя размерами: большим и малым. Малое усекновение делается инакомыслящим по первой судимости, когда есть еще надежда на раскаянье преступника, на исправление его для лояльной жизни. Он может потом и к делам быть допущен. Так чтоб он смог команды подавать и хоть полтитла государева промямлить, ему секут не более половины языка — треть, а то и четверть. Понятно, что с трибуны при усеченной дикции не повыступаешь, но молитву во спасение души или во здравие царя промочалить можно. Бог поймет! Он у нас и не такие косноязычные заказы исполняет.
Другое дело диссиденты-рецидивисты, с этими разговор короток! Их сокращают безбожно. Болтуны колымского закала «онемечиваются» на всю длину. Они после процедуры едва мычат. Если живы остаются. То, есть, языкознание — очень полезная наука, необходимая правительству по сей день. Действенная, эффективная вещь! Правда, при Иване Горбатом в Новгороде был один поп, Евсей-еретик, который смущал народ соединением православия с римским папством. Утверждал, что слеза на чудотворной иконе Смоленской Божьей Матери означает, что мать эта сильно убивается о детях своих неразумных, прямо рыдает, что они не мирятся по пустякам. И будто дети эти — мы с проклятыми папистами. Типа, они старшие братья, а мы — меньшие. Если бы еще наоборот, мы бы посмотрели, а так, нет — обрезали Евсею длинный язык под самый корешок. И что б вы думали? Этот каркун приспособился говорить совсем без языка! Возьмет в рот соленый огурец, проткнутый посередине спицей, вертит руками спицу, изрыгает богохульства пуще прежнего! Неразборчиво, но понятно и страшно выходит. Тогда уж отрубили Евсею все, что над плечами торчит, чтобы некуда было огурец засовывать.
С Курлятой поступили, можно сказать, по-дружески. Приговорили резать треть, ухватили четверть, потом нарочито подраскрыли ножницы, и отсекли только пядь неполную. Лечись и пой, славь государя!
Тут я должен предупредить любознательного читателя, что не в коем случае не рекомендую проводить «языческие» эксперименты над ближними своими. Но если уж придется, то помните: резка языка в классическом русском стиле делается раскаленными (!) ножницами типа нашего садового секатора. «Наш сад», так сказать, «наш де Сад». Раскаленность необходима для мгновенного прижигания раны и обеззараживания гадкого, словоблудного языка. Тогда есть все шансы на выздоровление вашего подопечного. Прислушайтесь к этому совету, если вы хоть сколько-нибудь заботитесь о благополучии жертвы. Ну, и водки ему налейте в утешение. И в утишение, чтоб не орал.
Курляте водки влили от души. Он пролежал в отрубе на дне телеги весь следующий день. Руки-ноги его были скованы длинной цепью, голова съехала с тюка и билась затылком о донные доски, над головой вращалось весеннее небо в обрамлении шатких берез и летели журавли. Потом еще два дня Ларион завтракал, обедал и ужинал той же царской водкой — и тоже без огурца. И только когда подъехали к реке, впервые сошел с телеги и произнес на чужом каком-то, полуматерном языке: «Хъеново, ебята!». Но никого поблизости не было, и никто не услышал покаянной жалобы.
Суздаль проскочили до рассвета и теперь грузились в лодки на пустом берегу Нерли. Откуда здесь взялись лодки, кроме царя никто не знал. Понятно было, что впереди похода несется некий всадник, все настраивает, покупает, готовит, подставляет.
Дальше поехали по мягкой воде. Вскоре впали в Оку, не заходя в Нижний, а там и Волга показалась. От Нижнего к лодкам царя пристроились еще несколько посудин охраны, ветер повернулся, как по заказу, и на всех парусах «богомолье» двинулось вниз по главной нашей «улице». Совершенно анонимно и без приключений — будто пошептал кто — долетели до Казани. Здесь оделись в черное, — кто в пестром отдыхал, — и пошли смиренной толпой в местный храм помолиться. В молитве выяснилось, что человек встречный еще не прибыл, ожидается дня через три, и хотите, тут ждите, хотите, плывите ниже, в устье Камы. Устроили заседание «малой думы». Грозный хотел в Казани ждать, Мелкий проголосовал ехать. Опасно было в Казани. Полно татар. Могли придраться к черным ризам. Пришлось повиноваться мелкому «большинству». Уселись в лодки, со скрипом заскользили по течению до того места, где Кама впадает в Волгу. А, если уж по чести, — то, где Волга впадает в Каму.
Приехали вовремя. Едва завидели дымку над Камским устьем, как слева привычно вылетели чайки под белыми парусами. Из-за острова, так сказать, на стрежень.
Глава 14
1581
Камское устье
Царь и богатырь
Сначала съехались по одной лодке. С Московской стороны на встречу поплыли Федор Смирной и Семен Строганов. От сибирской команды с ними разговаривал Матвей Мещеряк, человек царским людям неведомый. Мещеряк увидел, что Строганов жив, здоров, глаза блестят. Федя Смирной тоже выглядел домашним зверем, страху не пробуждал.
Смирной сказал, как было велено: привезли мы одного купца, хочет с Ермолаем Тимофеевичем поговорить-побеседовать. Втроем поехали к Ермаку.
Ермак был рад, что Семен вернулся, но и боялся, как бы не было подвоха. Когда неделю назад прискакал в Чусовой человек из Перми с приглашением от Семена в Казань, Ермоша ни на миг ему не поверил. Все выходило прозрачно. Приговоры есть? Есть. Семен под пыткой? А где ж еще? Захотят братву достать? Обязаны! Значит, это — подвох, замануха. По такому рассуждению нужно было Ермаку поднимать своих в седло и на лодки, ехать на Сибирскую Дорогу без Семена, и там уж, как Бог даст судьбу мыкать. Так бы он и сделал, когда б по прошествии того самого, недоверчивого мига, гонец не протянул атаману свернутую тряпочку. В тряпочке оказался клочок дубленой кожи с единственным выжженным словом: «Ярмак».