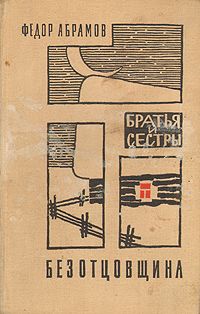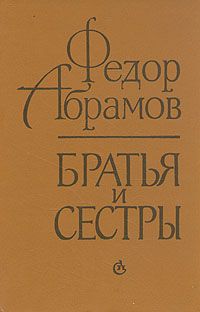Юрий Хазанов - Горечь
— Но почему бы вам было не избрать местом действия, скажем, древний Вавилон или Шумер? Почему допускаете гнусности по отношению к собственному народу?..
(От автора: А? Как вам нравится хитрюга и гуманист — прокурор? Значит, «гнусности» по отношению к жителям Вавилона позволительны? И, разумеется, в отношении всяких там капиталистических Америк, Франций и Англий тоже?.. Напоминаю, кстати, что другое название повести-гротеска «Говорит Москва» звучит так: «День открытых убийств». И в этом главная интрига.)
«...Обвиняемый твердит, — продолжает журналист в своей статье, — что всё это лишь художественный приём, а вовсе не клевета на нашу действительность… Нет, всё это не так невинно, как пытается он представить! Перед судом преступник… злобный враг. Он кусал исподтишка, тайком пересылал рукописи в антисоветские издательства…»
(От автора: Интересно, а хотя бы одно советское издательство смогло бы напечатать эту рукопись, не опасаясь, что его сотрудники будут, в лучшем случае, уволено без права заниматься своей работой, а в худшем?.. Ну, вы сами знаете…
И ещё автор просит извинения за назойливо-наивные вставки — но они на тот невероятный, но не лишённый приятности случай, если эта книжица попадёт вдруг в руки молодого и не слишком просвещённого в разнообразных жизненных коллизиях человека…)
На второй день заседаний объявили приговор: пять лет лагерей строгого режима.
И тогда Глеб сразу забыл о чужом, недобром лице Марка, о язвительной его улыбке, о странном свидетельстве, об иронии, с которой тот говорил о нервах Глеба; забыл о своём унижении, стыде, о том, как после судебного заседания увидел в вестибюле жену Марка и спросил с кривой усмешкой: «Очень я жалкий был, а?» И она коротко ответила: «Да уж…» И сразу отошла от него. Он забыл обо всём этом, и на следующий день, к вечеру, они с Ольгой поехали к ней на Ленинский проспект.
Дверь открыл их сын.
— Здравствуй, ребёнок, — сказал Глеб. «Ребёнком» он звал Витю чуть не с его младенчества и в нынешние тринадцать лет тоже. — Мамы нет?
— Нет, — сказал мальчик. На приветствие не ответил. Всегда немного лупоглазый, он глядел сейчас на Глеба ненавидящими, как тому казалось, готовыми выскочить из орбит глазами.
Глеб чувствовал, что теряется под этим взглядом — словно опять в зале суда, опять идёт к столу судьи, на виду у всех. Сказать он ничего не мог: стоял и молчал.
— Виделись с папой? — прервала молчание Ольга.
— Да, — сказал Витя.
— Как его самочувствие?
— Ничего.
Он не смотрел ни на кого из них, а так, на стенку. Пройти в комнату не пригласил.
— Когда его отправляют? — опять спросила Ольга.
— Завтра.
— Можно что-нибудь передать? Из продуктов?
— Мы уже передали.
Глеб спросил осевшим голосом:
— Для меня… мне… папа ничего не передал?
— Передал, — ответил Витя, и снова его ненавидящие глаза чуть не ударились в Глеба.
— Что?
— Что ему вас очень жаль, — отчётливо произнёс мальчик и отвернулся.
— Ладно, мы пошли, — быстро сказала Ольга. — Маме привет.
— До свиданья, — сказал Глеб.
Витя молча ждал, пока они уйдут…
Очередная газетная статья о судебном заседании появилась в среду, перед вынесением приговора, а в пятницу Глеба пригласил зайти директор школы.
— Есть небольшой разговор, Глеб Зиновьевич, — сказал он и замолчал, не глядя на него. Потом поднял голову, поглядел с любопытством и некоторым состраданием. — Что ж, прославились на всю, можно сказать, страну. В центральном органе пропечатали.
— Да, — сказал Глеб. — Это мой старый товарищ. — Он усмехнулся: — Очень, между прочим, неплохой учитель литературы… был… Я тоже, наверное, уже «был»?..
— Что же вы мне раньше не сказали? — удручённо спросил директор.
— А зачем? Что бы это изменило? Да и не хотел вас преждевременно травмировать. Может, и не упомянули бы обо мне в печати.
— Напрасно вы, — сказал директор. — К чему тут ирония? Сегодня утром меня вызывали в РОНО. Как же, говорят, у вас такое «ЧП»!.. А я ни о чём понятия не имею, ушами хлопаю… В общем, Глеб Зиновьевич, чего долго рассусоливать. Вы моё отношение к вам знаете, вина тут не моя, решено сверху… Сами понимаете…
У директора был такой вид, что Глеб пожалел его.
— Понимаю, — сказал он. — Сегодня напишу заявление об уходе.
— Конечно, мы вам дадим самую хорошую характеристику, не думайте, — сказал директор.
Подтереться мне вашей характеристикой, — подумал Глеб, но не произнёс вслух.
— Для дома, для семьи, — сказал он.
— Что?
— Ладно, Павел Валерьевич, о чём разговаривать. И так ясно… Сяду и напишу…
Глеб говорил с лёгкостью, с естественностью, которые самому нравились и удивляли, но объяснить, откуда они сейчас, он бы не мог. Ведь не стало ему сразу всё безразлично, не был он заранее готов к тому, что произошло. Наоборот, в голову не приходило, что всё повернётся именно так — после того, как увидел свою фамилию в газетном сообщении. Чёрт его знает, до чего сильно это биологическое, что ли, упование на то, что существует якобы норма плохого и хорошего и не может быть всё только плохо или ещё хуже, а должно выравниваться, в силу неведомых законов равновесия, должно становиться лучше, ползти от плохого к хорошему. Так подсказывает, вероятно, наша охранительная логика: страдание не имеет права длиться без конца, без края, есть ведь предел, границы… есть справедливость какая-то… Но, в то же время, обычная закономерность твердит нам же, что никаких пределов нет, и справедливости тоже, и изменить того, что случилось, никто уже не в силах — а значит, так тому и быть: плыви по течению, пока держишься на плаву, а нет — иди ко дну и не шебаршись…
Из школы Глеб шёл пешком, с трудом волочил ноги по скользким, плохо убранным от снега улицам. Состояние лёгкости и естественности прошло: всё вокруг представлялось странно искажённым — по цвету, форме, по звучанию, а наверное и на ощупь — сумеречный свет дня, голосА и лица, домА, автомашины… Как будто все его пять (а по нынешним временам и шесть) чувств сдвинулись, сместились…
Много лет назад, совсем мальчишкой, он шёл по Большой Бронной из кинотеатра «Великий немой», что почти на углу Тверского бульвара и Страстной площади, где тогда стоял монастырь. Шёл и не понимал, отчего кругом всё так странно и все такие странные, как будто сдвинутые, смещённые — окна домов, деревья, лица. ДОма смерили температуру, оказалось, около сорока. То ощущение он хорошо запомнил: словно все предметы изменили вдруг привычные очертания — стали излучать или отражать совсем иные, особые лучи и потому воспринимались тоже по-другому — изломанными, как ложка в стакане с водой…
Так было и сейчас, и хотелось тоже лежать в постели с температурой под сорок и ни о чём не думать, стать совсем маленьким, опекаемым кем-то; и пускай даже вызывают доктора Четверикова.
Когда пришёл домой, измерил температуру. Была омерзительно нормальная.
В последующие дни Глеб никуда не выходил, по телефону почти не разговаривал. Ему тоже не звонили. За последние месяцы так наговорились обо всём, что сейчас вроде и сил ни у кого не осталось. Это, впрочем, объяснение его жены. Глеб-то знал, лёжа на тахте, что от него попросту отвернулись, не хотят иметь дела, не могут думать без отвращения, глядеть без омерзения — как сын Марка, как его жена, как тот псих, кого он встретил в Доме литераторов. Как сам он презирает себя, свою жалкую роль, свои страхи, надежды, лепет… Пусть на самом деле не причинил он ни Марку и ни кому другому никакого вреда, пусть — всё равно его поведение, начиная с той самой минуты, как увидел красную книжицу в руках грузина-переводчика, и до того, когда, не глядя по сторонам, оплёванный, выходил из зала суда, было трусливым, опасливым, расчётливым, мелочным, с главной мыслью об одном: сохранить в целости самого себя, свои эфемерные блага, своё спокойствие; при этом, по возможности, не теряя достоинства. В общем, и невинность соблюсти, и капитал не растерять. Но ведь это невозможно, каждый дурак знает. Невозможно!.. А достоинство потерял сразу же. Да его и не было в помине. Прожил сорок с лишним, научил уму-разуму кучу детей, долдонил красивые слова, пробавлялся вольнолюбивыми мыслишками, а при первой проверке, и когда — уже не во времена рябого вдохновителя всех побед и его немыслимого террора! — моментально превратился в тряпичную марионетку, надломился, рухнул, позволил играть с собой, как кошке с мышью…
Не сильно утешило и то, что рассказала самая близкая и самая давняя из подруг, Миля, с кем ещё сиживал на одной парте в 114-й средней школе, напротив московского Зоопарка.
Миля ненадолго приехала тогда в Москву из своей заграницы — повидать родных. Когда-то она была хорошим юристом: хорошим — в смысле добрым и участливым, несмотря на то, что работала не каким-нибудь юрисконсультом или нотариусом, а самым настоящим следователем. А потом случилось так, что вышла замуж. Но не за прокурора, а за бывшего заключённого, да ещё родом из Польши, да ещё бывшего коммуниста-подпольщика, старше её на много лет. В начале тридцатых годов он бежал из панской Польши в самую свободную страну на свете, где вскоре был арестован как шпион и агент империализма и отсидел в нашем концлагере десять лет от звонка до звонка. Однако этот… (не знаю, какую дефиницию тут приличней употребить) не растерял своих убеждений и после выхода на свободу и мыканья с молодой женой и только родившимся ребёнком по леспромхозам и совхозам нашей державы (поскольку в больших городах ему жить не разрешали) — после всего этого он вернулся со своей новой семьёй в народную Польшу, чтобы завершить в ней строительство социализма. Но и там оказался ненужным. И тогда… что уж делать — пришлось податься в Землю Обетованную.