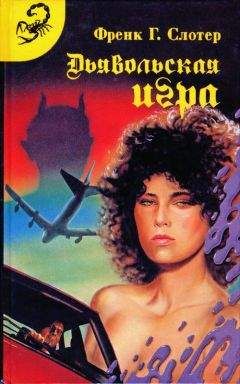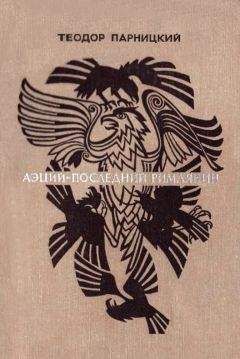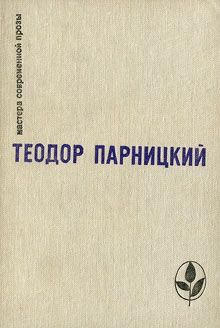Теодор Парницкий - Серебряные орлы
Именно вновь мысль об Аталанте приносит Аарону благое успокоение. Более того, чувство гордости. Более того, чувство могущества. Когда-нибудь, когда святейший отец вернется в Рим, он скажет окружающим его епископам и аббатам: воистину преданнее мне был Аарон, нежели Тимофей! А если не преданнее, то ведь куда более трудную службу взял на себя! Когда Тимофей пошел за мной, Аарон остался, чтобы грудью своей удержать преследователей. Не убежал от Рима, а двинулся навстречу Риму. Бегом направился. Так же, как бежал рядом с Аталантой навстречу вепрю по размякшей земле Калидона. Как Лаврентий не убоялся раскаленной решетки.
Слезы навернулись на глаза Аарона. Слезы умиления перед самим собой. Но и слезы от ощущения своего могущества, жертвенного могущества. Он представил себе, что и другой главой может завершиться книга изгнания Григория Пятого. Вот мраморная гробница в подземелье базилики святого Петра. Подле того места, где лежит Оттон Рыжий. Разве есть место слишком почетное для того, кто пал за столицу Петрову? Пал мученической смертью. Подставив грудь остриям, которые нацелены были в грудь святейшего отца. Аббаты и епископы Романии и Тусции, Италии и Бургундии, обеих Франконий и обеих Лотарингий, а прежде всего аббаты и епископы Британии и Ирландии смиренно преклоняют колени перед гробницей святого мученика. Тысячи горящих свечей, звон колоколов, голоса и пение, пение, пение… пение старцев и отроков, девиц и жен… а среди жен со слезами на глазах прекраснейшим из голосов поет Феодора Стефания…
Спустя годы, уже в Польше, Аарон сопровождал как-то Болеслава на охоте. Один раз. Он не выносил охоту. Жалел зверей. Но тогда так получилось, что не смог отказаться. Охотились на большого зверя. Но выдался момент, когда собаки погнали какое-то маленькое коричневое существо. Аарон страдал, страдал вместе с ним. Вдруг он увидел, что зверек не убегает. Он припал к земле. И недвижно оставался, когда собаки подскочили к нему. Большие, сильные псы, от которых, когда они шли стаей, убегали лисы и серны, даже лоси и медведицы.
Вместе с гордым спокойствием росла в душе Аарона великая любовь к папе. Он уже не видел в нем грозного судию, вооруженного мечом. Он видел страдающего, удрученного изгнанника. Слышал неслышимые Тимофею воздыхания. Он и сам вздохнул, и вместе со вздохом поплыл из его уст стих, полный горести и боли:
Jam subit illius fristissmae noctis imago,
quae mihi supremum tempus in urbe fuit[10]
Он чувствовал, что никогда не декламировал с таким чувством, с такой силой и такой напевностью. Не только архиепископ Эльфрик, но и сам аббат Эльфрик, если бы мог сейчас его слышать, смахнул бы слезы гордости за то, что вырастил такого ученика.
— А это еще что за вьюнош такой ученый? — произнес папа таким голосом, что трудно было понять, что же в нем слышится: удивление или пренебрежение.
И смотрел на Аарона так, будто никогда его не видал.
Аарон упал на колени и стал рассказывать о себе. Кто он, откуда. Но папа как будто не слушал. И вдруг прервал его:
— Я подпою тебе, — сказал он дружелюбным, но как будто все еще пренебрежительным тоном: — Jam tot mihi cara reliqui. — Сколько дорогого я здесь оставляю. Это верно. Но видишь ли, юнец…
И вдруг замолчал. А когда заговорил снова, в голосе его звучало какое-то юношеское озорство и юношеское упрямство.
— Видишь ли… Твой слезливый поэт, наверное, чувствовал, что не вернется… А я вернусь. Я не Овидий, меня императоры не изгоняют, а на щите приносят, куда хотят… Говорю тебе, я вернусь… Вернусь с мечом. Нет, с обоими мечами.
Он встал. Тимофей приблизил распухшие губы к уху Аарона и прошипел:
— И я вернусь, братец. Вернусь, чтобы взять все, чего хочу.
— И Феодору Стефанию? — вырвалось у Аарона.
— И Феодору Стефанию. Вот увидишь. И увидишь, что не на время утехи… не на время, смеха ради ею отведенное. Навсегда. Он, — Тимофей указал глазами на папу, — поделится со мной наследством Кресценция. Ему — Иоаннова голова, мне — жена.
4
Григорий Пятый вернулся в Рим. Вернулся, как и обещал, неся два меча. Меч церкви и меч императорский. Тусклое солнце двадцать второго февраля еле успело пробудиться, как перед ним уже было услужливое зеркало: тысячи и тысячи плоских саксонских шлемов. Мутная, желтоватая мелкая вода Тибра еще больше помутнела, щедро награжденная пылью и грязью заальпийского бездорожья. Море, беспредельно зеленое море, обычно такое беззаботное, гордое и могучее, осмеливалось сейчас только издавать слабое, тихое сочувственное ворчание, которым дружески одаряло безутешную в горе Кампанию, тщетно пытающуюся страдальческим эхом заглушить ужасающий гул обоюдоострых франкских топоров, яростно врубающихся в иструхлявившийся ствол Республики.
Вновь перестали ржать копи в базилике святого Лаврентия, зато просторные, роскошные залы в прекрасных виллах красивых черноглазых безграмотных внуков Марозии и Феодоры огласились вдруг протяжным ржанием боевых скакунов, весело тянущих чистую, бодрящую влагу из тысячелетних колодцев и фонтанов. Вновь заполнил монастырские кухни муторный запах водянистых, постных похлебок. Вновь затрясшиеся монашеские руки натягивали черное жесткое одеяние на сотрясаемую дрожью спину, всю в красных, а то и в синих полосах. И вновь исчез между алтарями звонкий, радостный, чувственный женский смех.
Только римский люд по-прежнему вызывал к себе неприязнь звезд неискоренимым обычаем превращать день в ночь. С факелами тек он как и раньте гулким потоком от Авентина к Латерану, от Санта Мария Маджоре к Капитолию. По-старому упивался гордостью, что превыше всего только он, именно он, всегда он… По-старому бросал на холодные ступени тех, кому хотел поклоняться. По-старому звучал его голос, хотя кричал уже не "Республика!", а только: "Ave Caesar Imperator, Ave Sanctissime Papa!" [11]
И по-старому поднимались цены на тускуланские вина.
С папой вернулся Тимофей. Вернулся, окруженный толпой слуг и прихлебателей. Когда хотел, входил в Латеран и дворец папы Льва в Ватикане. Ездил на квадриге, украшенной золотыми ключами. Возил в ней Аарона по всем закоулкам Города. Настоятеля монастыря святого Павла дружески хлопал по плечу. Безжалостными издевками над терзаемыми тревогой двоюродными братьями заглушал свист, вырывающийся в щербину в левом углу рта.
Но в глазах у него была грусть и горечь. Потому что не получил он ни тускуланских виноградников, ни Феодоры Стефании. И никогда не получит.
А был уверен, что получит. Знал, что в тот же самый день, когда император Оттон спрыгнул с седла перед воротами епископского дома в Павии, состоялся долгий тайный разговор между государем императором и святейшим папой. Оттон бил в ладоши при радостной мысли о роще виселиц, которая венцом тускуланских графов окружит колонну Марка Аврелия. Ему было приятно, что отец Тимофея успел спокойно умереть девять лет назад. Ведь, будь он жив, ему пришлось бы разделить судьбу братьев. А у дорогого императорскому сердцу Тимофея были бы ненужные огорчения. Потому что хотя отец тоже наверняка бил бы и пинал его, как остальная родня, но ведь всегда неприятно смотреть в сводчатое окно, как твой родитель болтается, высунув язык.
Еще больше обрадовало императора намерение отдать самому верному из верных красавицу Феодору Стефанию. С горящими глазами рисовал он папе картину ее первой ночи с Тимофеем. Кресценция прикуют железной цепью к ее ложу: пусть насмотрится досыта. А утром его откуют, чтобы обезглавить.
— Что бы ты сказал, отец мой и брат, — осведомился он весело, меряя худыми, длинными ногами выложенный красными плитами пол, — если послать утомленной любовью паре вместе с утренним завтраком голову Кресценция на серебряном, да нет, на золотом блюде?!
Папа рассказал Тимофею, что от этих слов он чуть не повалился на красные плиты вместе с креслом, на котором сидел, с такой силой толкнул император его кресло, припав вдруг всем телом к его обутым в пурпур и золото ногам. А поверх ног смотрели на папу широко раскрытые, уже не веселые, а безумно-тревожные, полные отчаяния глаза ребенка. Самого боязливого из боязливых. Странно и смешно тряслись побелевшие вдруг, обычно такие презрительные, красивые, узкие губы. Громко лязгали длинные хищные зубы.
— Скажи… Скажи… А я не накликал на себя гнева… не слишком оскорбил святого Иоанна Крестителя, сказав… об этом блюде? Ведь это же страшный… смертельный грех… верно? Скорей… скорей… подними руку… сними с меня грех… дай мне апостольское отпущение…
И так же быстро, как упал, вскочил на ноги. И топнул.
— Ты слышал? Сними грех сейчас же… Ты же для того здесь и есть… Для этого и приводят тебя вновь в Рим мои франки и саксы… за этим… за этим… за этим… за этим…
Пена выступила у него на губах. Григорий Пятый побледнел, но во взгляде, которым он мерил дергающегося владыку мира, не видно было тревоги, а только проницательное внимание. И так же спокойно, хотя сухо и высокомерие, как никогда он не обращался к Тимофею, папа сказал: