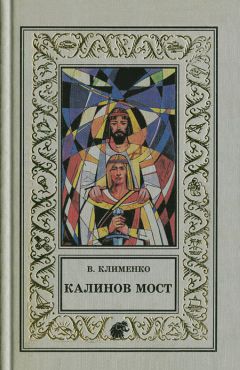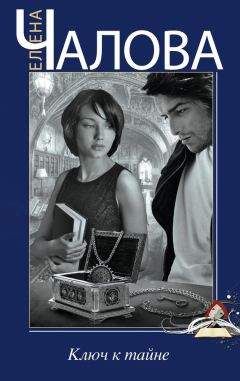Владимир Аристов - Ключ-город
От бояр мужикам совсем стало тесно жить, хоть и велика из края в край русская земля. Немало истоптал Оверьян Фролов троп и дорог, а куда ни пойди — везде Русь: одним крестом крестятся, одному богу молятся. Мало радости будет жить за новым хозяином князем Василием, да что поделаешь. До Литвы всего пути день. Засылают паны на Русь через рубеж своих людей, переманивают те мужиков. «Идите-де в Литву жить, в Литве русских мужиков сидит за панами тьма, — какие при короле Степане повоеваны, какие сами пришли. И житье-де за панами легкое, и оброка паны брать не станут». Кое-какие мужики поддались на прельстительные речи, сошли в Литву, а обратно едва живы приволоклись.
В Порецкой волости мужик Тишка Хвост, знакомец, тоже бегал сдуру в Литву легкой жизни искать; за паном Доморацким жил. Полгода выжил за паном — и обратно побежал, да попался на рубеже жолнерам, те его опять к господину пригнали. Пан, чтоб неповадно было хлопу бегать, велел надрезать Тимошке пятки, а в раны набить рубленого конского волоса. Думал пан Доморацкий: не уйти от него хлопу с резаными пятками, да не так вышло. Разве есть на свете, что бы удержало русского мужика, когда потянет его на вольную волюшку! Во второй раз бежал Тимошка от пана, не бежал — на карачках уполз. Когда перебрался через порубежную речку в русскую деревню, плакал навзрыд, землю родную целовал, заклинал мужиков гнать от себя сладкоречивых панских посланцев. «Бояре люты, да паны во сто крат лютее. Свои бояре хоть бога помнят, кожу снимают, паны ж папежники кожу с мясом рвут».
Да разве может мужик кинуть свою русскую христианскую землю? От боярина к боярину бегать — другое дело, хоть земля и бояринова, не мужикова, да своя, русская.
Вон перелесок, елочки, поле под снегом, такое же все, как за сотню, за две, а может, и за тысячу верст, а то и больше, русское, родное сызмальства. Легче до смерти горе мыкать под боярами, чем с родной земли сойти. Да еще куда? В Литву поганую.
Стоял Оверьян Фролов, смотрел на новую избу, думал. Пришел Евсей Скорина, похвалил избу, сказал:
— Без братчины изба не красна, новожилец; закажи бабе пиво варить да гостей зови, а припасу на пиво мы с Онтоном дадим.
На братчину пришли Скудодей со Скориной и бабы. Стол накрыли крашенинной скатертью, поставили деревянные братины с пивом и пироги с горохом и зайчатиной. Гости черпали пиво липовыми ковшиками, удивлялись, что многие бояре зайчатины не вкушают, почитая поганью. Говорили, если на Василия-капельника с изб капель — быть урожаю, а тут метель разыгралась. Скорина сказал, что с утра хоть мало, а капало. Когда завечерело, заложили втулками оконца, зажгли лучину. Оверьяну пиво ударило в голову. Вспомнив житье за игуменом Серафимом, затянул:
Уж как бьют-то добра-молодца на правеже,
Что нагого бьют, босого и без пояса
В одних гарусных чулочках-то без чеботов,
Правят с молодца казну да монастырскую…
Онтон Скудодей со Скориной подтягивали скучными голосами. Бабы, подперев руками головы, пускали в рукава слезы. Жалобная песня скоро прискучила, перешли на веселую, с присвистом. Бабы вскочили, потряхивая киками, пошли в плясовую. Не слышали, как стукнуло в сенях, пахнуло холодом. Хозяин и гости обернулись. У порога стоял Ивашко Кислов, князев приказчик, косой на один глаз, мрачного вида мужик.
Ивашко отряс с колпака снег, повел по углам косым глазом, вкрадчивым голосом выговорил:
— По здорову ли, православные, живете?
Мужики приросли к лавкам. Скудодей закашлялся, едва не подавился пирогом. Приказчик шумно потянул носом пивной дух, гаркнул:
— Без боярина государя дозволения пиво варили!
Вцепился жилистой рукой в Оверьянову бороду, стянул его с лавки.
— Не ведаешь, новожилец, что мужикам пиво варить заказано?!
Колотя о стену Оверьяновой головой, приговаривал:
— Заказано! Заказано! А случится надобность, бери пиво да вино в бояриновом кабаке! Кабаке! Кабаке!
Оверьян упирался руками в приказчикову грудь, силился вырваться. Но Ивашко Кислов был сильнее отощавшего в бегах мужика, тряс, пока у Оверьяна не зашлись глаза, бросил наземь, пинал ногами, целясь под вздох, подскочил к столу, вывернул из братин остатки пива. Бабы охнули, хватая шубейки, кинулись вон. Оверьян поднялся кряхтя, в голове гудело. Приказчик вытер вспотевший лоб (умаялся с Оверьяном).
— Такова-то вам братчина, песьи дети. А тебе, новожилец, за неявленное пиво, что без дозволения боярина варил, заплатить для первого раза пени три алтына, а сколько батогами пожаловать, о том господин рассудит.
Приказчик ушел. Мужики вздыхали. Оверьян, задрав рубаху, охая, разглядывал синебагровые отметины на боках.
Опустил рубаху, прислушался. За стеной замирал, удаляясь, топот приказчикова коня. Оверьян сердито сказал:
— Ивашко Кислов — вчера гряды копал, сегодня в воеводы попал.
Онтон Скудодей и Скорина шагнули было к выходу уходить, Оверьян их остановил, глаза его повеселели, он озорно крикнул:
— Эй, браты, семь бед — один ответ. Или мужикам боярин и горе размыкать заказывает? Или наше пиво не удалось, что на пол пролилось?
Крикнул сыну Ортюшке, чтобы достал из прируба припрятанный мед да поглядел, не подкарауливает ли опять где во дворе Ивашко Кислов. Бабы вернулись одна за другой, пугливо переглядываясь, уселись. Скоро и об Ивашке Кислове, и о боярине князе Василии забыли. Опять затянули песню веселую, гулевую:
…Воробей пиво варил,
Молодой гостей сзывал.
Ой, жги, говори,
Молодой гостей сзывал.
Оверьян как ни в чем не бывало пошел в пляс. Бабы от удивления ахнули: «Это битый-то!». Оверьян скороговоркой: «Колоченая посуда два века живет». Пошли в пляс и захмелевшие бабы; от пляса гудела изба, сыпалась с потолка земля. Оверьян притоптывал лаптями, покрикивал:
— Ой, жги, жги! Пляши, браты, или бояре и веселиться мужикам заказали!
2
В голубом тумане над дальним бором поднималось рудо-желтое солнце. Медный прапорец[10] на смотрильне[11] господинова дома засветился червонным золотом. Хромоногий Костюшко, конюшенный холоп, помогавший бабе-скотнице выгонять за двор коров, пощурился на прапорец, со злостью крикнул:
— Опять припозднились, Офроська, будет боярин лаяться! — Огрел батогом бурую корову. — Как поставил боярин кирпичный завод — житья не стало. Прежде сколько холопов на дворе было, а теперь велел всем на заводе у кирпичного дела быть. Толки воду на воеводу. А мне и на конном, и на скотном одному не управиться. Не гоже с одного тягла две дани брать. Не нога худая — побрел бы, как другие, меж двор.
Скотница замахала руками, зашикала:
— Утихомирься, Костюшко, боярин бредет!
На крыльцо, широкое, с стрельчатой кровлей на резных столбах, вышел хозяин князь Василий Морткин. На голове засаленная тафья, на плечах затасканный зипун. Стоял, почесываясь, смотрел круглыми, как у совы, глазами на поднявшееся солнце. Стукнул суковатым посошком:
— Сколько раз говорено — животину до солнца выгонять! Одна вам забота — только в брюхо набить, а чтоб о господиновом деле порадеть, того нет. Доберусь до вас, толстомясых, не один батог изломаю.
Морткин сошел с крыльца, пошел обходить хозяйство. Идет князь Василий, хозяйски, коршуном смотрит по сторонам. От солнца и голубого неба гнев у князя стал проходить и думы легкие. «Бога гневить нечего: двор — чаша полная. Эк, чего нагорожено! Дворы, сараи, мыльня, кузня. Господи боже! И все к месту. Житницы от зерна ломятся. В медуше от кадей с медом деваться некуда, сундуки рухлом полны, в шкатунях казны припасено довольно. У иного московского боярина того нет». Прикинул, — сколько в последнем месяце было выручено от кабака. Кабак поставил в прошлом году при дороге — ни пешему, ни конному не миновать. Наведался князь Василий и в птичий хлев, спросил бабу-птичницу, не слышно ли без времени куриного клику. Оттуда — в поварню. В поварне посмотрел в кади, много ли осталось невеяны на хлебы дворовым людям, стряпухе велел ради постного дня толокно забалтывать холопам редко.
По усыпанной песком широкой дороге вышел за ворота. Усадьба стоит на взгорье. Внизу разбросалось село Морткино — пятнадцать дворов. Селом был верстан при царе Иване отец Федор. Старый князь заплатил в поместном приказе двести рублей, и село с полутора тысячью четей земли и двумя деревнями записали за Морткиным в вотчины.
Князь Василий постоял у ворот, поглядел на дымки над черными избами мужиков, вернулся к крыльцу, крикнул седлать коня, горничному отроку велел принести кафтан.
Костюшко подвел коня. Князь вынесся за ворота, позади трусил на кобыленке Костюшко. Стали спускаться к реке. Догнали попа Омельку, Князева духовника. Поп ступал босыми ногами, оставляя след в росистой траве; на плече сложенные мрежи. Отчитав на скорую руку утреню, Омелько брел половить рыбки.