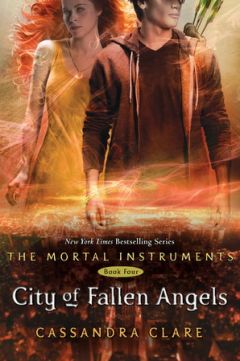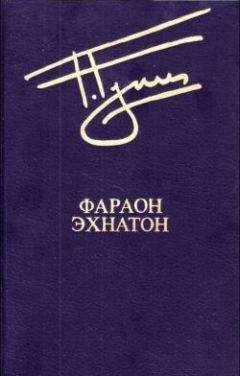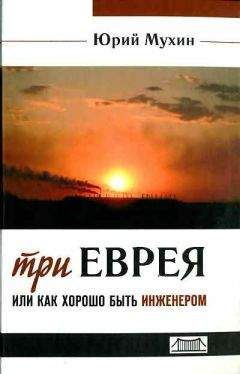Юрий Давыдов - Глухая пора листопада
Недавно как-то директор департамента улучил минуту сказать обер-прокурору, что по-прежнему, мол, считает его своим учителем. Победоносцев ответил не без остроумия: «Вы в очень хорошей компании». Константин Петрович некогда преподавал законоведение великим князьям, детям покойного императора Александра Второго, одному из них, ныне царствующему, поднесь оставался наставником и наперсником. Что и говорить – хорошая компания.
Вячеслава Константиновича злило расположение Победоносцева к графу Толстому. «Настоящий человек на настоящем месте», – определял обер-прокурор. И Плеве знал, что это именно он, Победоносцев, надоумил государя уволить Игнатьева и вручить министерство Толстому. Ну что ж тут? Приходилось терпеть похвалы графу Дмитрию Андреевичу.
Обер-прокурор находил, что генерал Оржевский не совсем не прав, говоря о тухлой рыбе, плывущей по течению. Обер-прокурор полагал, что император прав, несколько сомневаясь в твердости убеждений Плеве: при диктаторстве Лорис-Меликова держался либеральных идей; при Игнатьеве, сменившем Лориса, исповедовал, как и новый начальник, особый (глупый) род славянофильства; теперь, при Толстом, – ревностный поборник антилиберальных взглядов. А за душой? Честолюбие, карьерность. Но с рельсов, нет, никогда не сойдет. По правде сказать, Победоносцев – не едко, а снисходительно – презирал Плеве. Однако не отказывал в покровительстве, в приватных свиданиях. Обер-прокурор даже любил изредка потолковать с дельным, преуспевавшим воспитанником юридического факультета.
И странная штука, застегнутый, не повадливый на откровенности Плеве не только как бы раскрывался перед стариком (Победоносцеву не было и шестидесяти, но выглядел он на все семьдесят), не только как бы раскрывался, а и позволял себе рискованные замечания.
На прошлой неделе Вячеслав Константинович приезжал к Победоносцеву домой, на Литейный. (Курьез, право: живет стена об стену с сатириком Салтыковым, то бишь Щедриным.) Константин Петрович прихварывал, хандрил, кутался в халат и, кажется, искренне обрадовался гостю. Разговор у них зашел о Каткове, редакторе «Московских ведомостей». Победоносцев признавал достоинства Михаилы Иикифоровича, однако не оправдывал «известные» недостатки характера, несносный тон «некоторых» статей, касающихся внешней политики.
Плеве слушал, соглашался, сказал, что не читает «Московские ведомости» – штудирует. «А знаете ли, что самое ценное? – продолжал Победоносцев. – Постоянное, настойчивое стремление к политическому единомыслию. И Михаила Никифорыч прав: ничего России так не надобно, как именно единомыслие».
(Вот тут-то Плеве и позволил себе одно из тех рискованных замечаний, что вырывались у него в присутствии сурового старика. Старика, который во многом определял высшие государственные дела, часто и подолгу виделся с императором.)
– Политическое единомыслие? – повторил Плеве. – Помнится, Калигула желал, чтоб римский народ имел одну голову: ее можно снести махом.
Победоносцев нахмурился, в глазах было недоумение.
– Нет, нет, оборони бог, – Плеве так и подмывало, он испытывал что-то такое, что было ему вовсе не свойственно. – Оборони бог, Константин Петрович, я душою, сердцем за политическое единомыслие, за одну голову. За такую, Константин Петрович, которая только б и знала, что кричать: «Ур-р-ра!»
Старик покашливал, старик не сердился. И Вячеслав Константинович совсем уж расстегнулся, сознавая, что попал в хорошую минуту и ею следует пользоваться, потому что такие минуты упрочивают положение лучше, сильнее годов верной службы. Ах, не только это он сознавал, не только. Ему было весело и жутко дерзить «старому льву». И Вячеслав Константинович бухнул:
– А при политическом единомыслии, Константин Петрович, нашей матушке-России и парламент не страшен, можно и парламент завести.
«Парламент и Россия» – слуху Победоносцева нестерпимое созвучие, Плеве хорошо это знал, да вот она, минута, – старик рассмеялся, закашлялся, замахал руками. Ему, должно быть, вообразилось нечто в высшей степени комическое: российский парламент при всеобщем единомыслии, эдакая одна башка с разверстым хайлом: «Ур-р-ра!» И Константин Петрович Победоносцев рассмеялся, закашлялся, замахал руками…
Обер-прокурор опаздывал, мысли Вячеслава Константиновича вернулись к Судейкину, к разговору о Москве. Было бы справедливым еще до коронации произвести инспектора в полковники. Он, Плеве, говорил Оржевскому. Да ведь генералу вечный недосуг: «Петербург танцует…» Да, танцует и… «ждет сюрпризов». Что же до Плеве, то он уверен – все обойдется тихо. Почти уверен. Но в этом «почти» – тревога.
Там, в Москве, решительно все меры приняты. Целый год хлопочет особая комиссия. Князь Долгорукий шлет обстоятельные отчеты. Лишь свод охранительных распоряжений, беглый их перечень занял двадцать листов. А недавно командированы в первопрестольную трое опытнейших водолазов. Что еще? Решительно все меры!
А государь, говорят, не спит ночей. И начальник охраны, этот бурбон, этот пропойца Черевин пристает: обеспечена ли безопасность? Ох, если б коронацию в Гатчине… Так нет, Москва, сердце России, святые кремлевские соборы и т. д. и т. п. Всенародное торжество требует всеполицейского напряжения.
Плеве окликнул дежурного чиновника: здесь ли нужный человек? Услышав ответ, велел проводить в «ту комнату».
Соглашаясь на встречу с Яблонским, директор департамента не преследовал никаких целей, а лишь уступал просьбе Судейкина. Да и то сказать, Яблонский в силу оказанных услуг, веса, необычайного положения вправе на встречу с самим министром. Плеве это понимал и принимал. Он не испытывал брезгливости к шпиону-провокатору. Каждому свое. В замшевых перчатках не берутся за политический розыск. А граф не пожелал видеть Яблонского: «Фи!» Граф корчит из себя большого барина. Впрочем, он действительно большой барин. А вот Константин Петрович Победоносцев очень даже и пожелал: «Этот ваш Яблонский, очевидно, незауряден». Зауряден, нет ли, а на альянсе Судейкин – Яблонский ныне многое держится.
Особенное движение послышалось в приемной. Плеве коснулся кончиками пальцев холодных висков и слегка надавил на виски, словно переключаясь от одних мыслей на другие.
4
Ему было неловко в костюме с иголочки, неловко в этой несветлой комнате с двумя креслами. Ему чудилось, что за портьерами другая комната и там притаился кто-то. Он был бы рад Судейкину, он бы ободрился в присутствии Георгия Порфирьевича, но Судейкин предупредил, что свидание состоится с глазу на глаз.
Добившись аудиенции, Яблонский боялся аудиенции. Он вытвердил речь-программу. Но сейчас нервничал, дожидаясь директора департамента. Хотелось курить, а он не знал, можно ли. И эта нерешительность – курить, не курить – унижала его. Тщедушный, большеголовый, он, как случалось с ним в критические минуты, ощущал свою физическую непривлекательность, и это тоже его унижало.
Он бы убрался из этой загадочной комнаты с двумя креслами и портьерами. Его страшно тянуло в солнечный день, в город, к людям, в сутолоку, где можно затеряться, исчезнуть.
Вошел Некто: бледное лицо, холодные глаза, сюртук без орденов, с одним прокурорским значком. Некто мог не представляться: Яблонский узнал его, хотя раньше и не встречал.
Плеве не назвался и руки не подал. Однако предложил сесть и не сел прежде Яблонского.
У Яблонского вспотели ладони. Плеве смотрел на него. В этом взгляде не было ни начальственной строгости, ни даже любопытства. Неумолимость? Мертвенность? Взгляд Медузы? Яблонскому показалось, что он уже выдерживал такой, именно такой взгляд. Но где? Когда? И внезапно вспомнил: полковник Катанский, Одесса, жандармский полковник Катанский. И оттого, что холодные пристальные глаза директора департамента показались ему глазами провинциального полковника, Яблонскому стало легче. Он перевел дыхание.
– Милостивый государь, я прежде всего… – Плеве поискал слова. – Я считаю своим приятным долгом, милостивый государь, благодарить вас, официально благодарить за содействие арестованию Фигнер, а также за то, что она, слава богу, пребывает в крепости. Во-вторых, позволю себе выразить надежду, что вы и впредь окажете важные услуги, каковые, несомненно, будут отмечены.
Яблонский наклонил голову. Ему надо было принять благодарность как должное. И он принял ее как должное, без ответной благодарности. Он ждал таких слов, он их дождался, и ему сделалось еще легче, еще вольнее.
– Ваше превосходительство, – сказал Яблонский, отирая ладони и ощущая, что они уже не потеют, – я, ваше превосходительство, думаю, мне следует воспользоваться вашей любезностью в интересах… Да, в интересах высоких и значительных. Мое душевное желание убедить вас вот в чем. В моем сотрудничестве нет ни карьерных, ни меркантильных соображений. Я долго размышлял и, поверьте, не с легким сердцем принял… не побоюсь сказать… принял миссию, которая, может быть, рисуется в невыгодном, неблаговидном свете. Я долго размышлял, да. И какой же капитальный вывод, ваше превосходительство? Вы знаете мое прошлое, я не отрекаюсь. Но вывод почти математический: действия террористической фракции заслуживают не только осуждения, но и пресечения. Философ Соловьев говорит: правду нельзя обрести неправдой. А ведь пролитие крови – неправда.