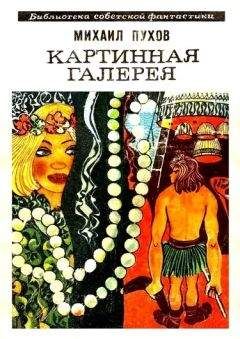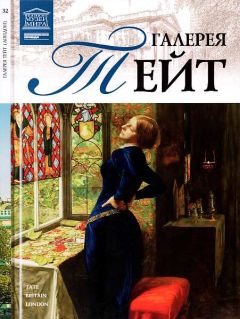Николай Равич - Две столицы
Через два часа главнокомандующий и великий канцлер встретились за завтраком. Безбородко, осмотрев своим безошибочным взглядом огромный стол, заставленный блюдами, подошёл к главнокомандующему, обнял его:
— Наши батьки говорили: «У церкви та за столом лишнее слово — грех…» — И, заложив салфетку за ворот просторного камзола, принялся за еду.
Граф Захар Григорьевич Чернышёв, высокий, стройный, худощавый старик с умной улыбкой, сел на хозяйское место.
Бесшумные лакеи пододвигали блюда, наполняли рюмки и бокалы.
Наконец завтрак кончился, но съеденное нужно было ещё переварить, и великий канцлер, тяжело дыша, переваливаясь, направился в кабинет хозяина и уселся в креслах у огня. Хозяин молча шевелил щипцами угли в камине, гость дремал.
Вдруг Безбородко, приоткрыв один глаз, хитро посмотрел на главнокомандующего:
— Чуете ли вы, дорогой Захар Григорьевич, по какой справе я до вас приехав?..
Чернышёв молча пожал плечами.
— Матушке государыне известно стало, что покровительствуете вы сообществу во главе с господином Новиковым, кое ставит целью своею через приобщение подлого народа к наукам и освобождение крестьян от господ своих низвергнуть строй государственный.
Чернышёв улыбнулся, прошёлся по кабинету, потом повернулся к канцлеру.
— Слушать сие было бы смешно, если бы столь печальным не было доверие её величества к сущим несуразностям… Однако кое в чём, может быть, государыня и права…
Канцлер открыл другой глаз и насторожился.
— Помните ли вы, Александр Андреевич, — продолжал Чернышёв, — что писал, умирая в бедном и малом татарском селении на берегу Богульминки, покойный Александр Ильич Бибиков, посланный усмирять Пугачёва? Он писал, что дворяне дошли до такой степени зверства над крестьянами, доведя их до столь нестерпимого положения, что в дальнейшем иначе, как ограничением власти помещиков, нельзя избегнуть конечной гибели государства… А граф Пётр Панин, принявший после Бибикова команду? Не он ли бил выборных от казанских дворян палкой, приговаривая, что таких подлецов свет не видел. Мне ли вам рассказывать о подлости нравов, невежестве, расточительности и скудоумии дворянства…
С канцлера сон как рукой сняло. Он даже приподнялся в креслах, открыв рот и глядя на главнокомандующего.
Чернышёв подошёл к столу, вынул из ящика слоновой кости сигару «Фидибус», обрезал её, закурил.
— Вы что же, — наконец сказал канцлер, — имеете свой прожект и программу?
Чернышёв посмотрел на колечко белого дыма, поднимавшееся кверху.
— Нет, не имею. Они и не надобны. Программа наша начертана Великим Петром. Сие есть: размножение книг и просвещение, выдвижение людей учёных и честных — по способностям, а не по родовитости и искательству, учреждение школ, развитие земледелия, фабрик, мореплавания, предоставление права крестьянину пользоваться плодами труда своего и равность всех перед законом.
Канцлер встал, задумчиво посмотрел на огонь, спросил через плечо:
— Какими же средствами думает сообщество, о котором вы говорите, проводить сии идеи?
Чернышёв улыбнулся:
— Средствами, дозволенными указами государыни императрицы, на коих и ваша скрепа[32] существует: открытием типографий и школ, изданием книг и журналов, цензурою разрешённых, продажей оных. Впрочем, если вы, Александр Андреевич, считаете, что всё сие государству вредно, скажите…
Безбородко неожиданно повернулся и поглядел своими маленькими умными и хитрыми глазами на Чернышёва.
— Побачим, що с цего буде. Тилько смотри, Захар Григорьевич, матушка императрица теперь не та, що була, когда ты с ней в фанты играв. Поостерегись маленько…
Вдруг канцлер замолк и потянул носом: из дверей в столовую доносился ароматный запах блюд, слуги отодвигали стулья, и он, совсем повеселев, прибавил:
— Ну що, попрацювали, да пора и за стол, а?..
В доме у Воскресенских ворот,[33] где помещалась Университетская типография,[34] царило необычайное оживление. Перед ним стоял длинный ряд ломовых телег, нагруженных ящиками. Выходили наборщики, кряхтя и переругиваясь, тащили ящики вниз, в полуподвальное, но светлое и сухое большое помещение. Мастера в зелёных фартуках, с трубками во рту мелькали повсюду. Одни следили, как вскрывают ящики и достают из них части машин, другие руководили сборкой.
В воздухе разносился стук молотов, звон падающих металлических частей, сливалась немецкая и русская ругань. Толкотня была как на площади. Сверху доносился мерный стук типографских станков, шум от перебрасываемых тюков бумаги, топот. В первом этаже печатались «Московские ведомости»,[35] «Прибавления» к ним, «Детское чтение для сердца и разума». Скромная Университетская типография, выпускавшая шестьсот экземпляров газеты в день и несколько десятков книг в год, в которой даже печатание сочинений Ломоносова приостановилось, потому что в типографии не хватало «иже с краткою», теперь работала день и ночь.
Тираж «Московских ведомостей» дошёл до шести тысяч, столько же печаталось «Прибавлений» к ним, а книжный цех был так загружен, что у касс наборщики стояли плечом к плечу. Типография расширялась непрерывно. Всё время из-за границы доставлялись новые машины и шрифты, люди работали не разгибаясь и всё-таки не могли справиться с бесконечными рукописями русских и переводных романов, учебников и других книг, которые стремился выпустить неутомимый издатель.
На третьем этаже помещалась редакция «Московских ведомостей» и квартира Николая Ивановича Новикова. Суета в этих комнатах царила необыкновенная. В обширной передней были грудами навалены шляпы с позументами по краям, плащи, форменные треуголки.
В следующей за ней комнате у обширного стола, уставленного блюдами и бутылками, толпилось множество народа. Студенты и офицеры в мундирах, молодые люди с косицами и в буклях, в кафтанах с большими обшлагами и клапанами, узких панталонах и туфлях с пряжками, на высоких каблуках стояли группами у окон и разговаривали.
На стул взобрался краснощёкий мужчина, круглолицый, с ямочками на щеках, одетый в новый, с иголочки кафтан и серый камзол. Его кружевное белоснежное жабо издавало аромат модных духов «Киннамона». Он читал стихи, несколько отставив руку с листом, глаза его насмешливо щурились:
НАСТАВЛЕНИЕ МОЛОДОМУ СУЕТОНУ, ВСТУПАЮЩЕМУ В СВЕТ
Ты должен стыд изгнать, учение оставить,
Бесстыдство вместо них с невежеством восставить.
Себя ты внутренне всех лучше почитай,
Не слушай никого, один лишь всё болтай;
Суди о всех вещах, хоть ничего не знаешь, —
Ты сим почтение себе приобретаешь.
Богатым кланяйся, на бедных не гляди;
Перед чиновными ты подло унижайся,
Над нищими гордись, а часто и ругайся,
Подвластными тебе не очень дорожи,
Иль изредка ты им вид милости кажи.
Крестьян ты, разорив, продай иль заложи
И, деньги взяв за них, на карту положи.
Ещё ж знать всякому потребно офицеру —
Оспорить в полчаса и опорочить веру.
Всё делай тленным, всё ты делай бесконечным,
Сей мир ты признавай то временным, то вечным;
То телом иногда ты душу называй,
То духа имя ей из милости давай.
Похвально, если ты обиды не прощаешь.
Бесчестен будучи, честь шпагой защищаешь.
Ты смело без вины соперника рази,
За грубые слова и друга в грудь пронзи.
Ешь, пей и веселись, во все вдавайся страсти,
Над добродетелью победу одержи,
На совесть, здравый ум оковы наложи.
Низвергнув сих врагов, своей последуй воле —
Сим можешь ото всех ты отличить себя.
Какое счастье, честь и слава для тебя!
Он кончил читать. Наступившую тишину прервали аплодисменты, крики, шум отодвигаемых стульев.
— Браво, Денис Иванович, ты, право, превзошёл самого себя, — сказал высокий молодой офицер с резкими, выразительными чертами лица. — Придворные модники не очень будут рады твоему произведению! Я предлагаю, господа, выпить за нашего Буало…[36]
Зазвенели бокалы, все окружили улыбающегося Фонвизина.
В последней комнате за большой конторкой сидел хозяин — Николай Иванович Новиков, крупный человек с большим носом и выразительными чёрными глазами, и разговаривал с посетителем, по-видимому, купцом. Купец, великан, стриженный под скобку, с окладистой седой бородой, полузакрыв глаза и сложив на животе руки, слушал хозяина.