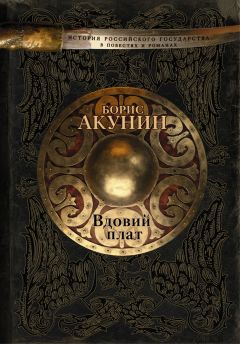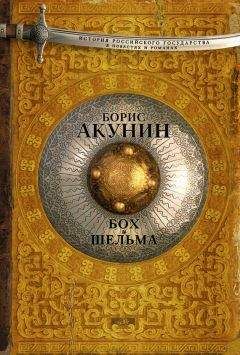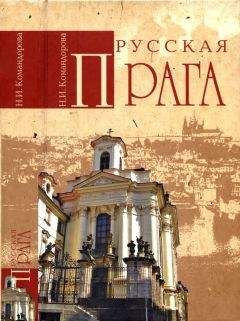Борис Акунин - Вдовий плат
Тщательно продумала чин рассадки. Один стол – головной. Там красивое кресло немецкой работы, с золотыми разговорами на высокой спинке – для Ивана. Рядом простой табурет для хозяйки. Вроде скромно, а всё же отличительно от прочих и даже выше великокняжеских братьев. У тех каждого по отдельному столу, небольшому – одесную для Андрея Большого, князя Углицкого, ошую – для Бориса Волоцкого. А замыкался квадрат столом длинным и низким, с обыкновенною скамьей – для свитских.
Однако вышло не так, как прикидывала Настасья. Никого из бояр и дьяков Иван с собою не взял, вошел сам-четверт, с братьями и Борисовым. Наместнику жестом велел подкатиться к головному столу, занять место рядом с собой, и получилось, что Настасья сидит не вдвоем с Иваном, а будто бы на равных с Борисовым.
Недовольная таким принижением, Настасья поклонилась умеренно и, произнося положенное величание, назвала великого князя всего лишь «пресветлым господином великим князем», без большого титула и уж, конечно, без «государя».
Он принял от нее золотую чарку с вином, учтиво поднес к губам, но не отпил – передал кравчему. Пока что не произнес ни единого слова и не улыбнулся, а лишь внимательно разглядывал хозяйку сверху: она была высокая, а он на полголовы выше.
Рассказывали, будто от взгляда Ивана Васильевича на Москве многие цепенеют, а Настасья ничего такого не почувствовала. Таращит очи, в них блеск оловянный – и только.
Братья казались много моложе великого князя. Андрей был краснощекий, густобородый, подвижный; Борис с нежной, как у девки, кожей, с золотистой бородкой – наверно, нравился бабам. Оба тоже помалкивали. У московских прежде государя болтать не положено. Борисов на своем стульце вовсе сидел тише воды ниже травы.
Нешумное у нас веселье, подумала Настасья, подав знак нести угощение.
Сначала подали пироги: рыбные, мясные, с луком и редькой, с капустой и хреном. Потом отборную рыбу, украшенную зеленями. Потом разные мяса.
Как и предупреждал Захар, великий князь ни к чему не притрагивался, всё пробовал кравчий, кладя проверенное государю под правую руку. Один раз Иван коснулся пальцем кадыка – это, видно, был условный знак: хочу пить. Кравчий налил в кубок какого-то своего питья, сняв с пояса баклагу.
Братья – те ели в три горла, ничего не опасаясь. А и кому они нужны, их травить? Андрей напихал в широкий рукав пирожков со стерлядью – видно, понравились. Он пил вино жадно и много, становясь всё красней. Борис отдавал предпочтение сладкой мальвазее, а заедал солеными рыжиками. (Григориева решила послать первому ушат с такими пирожками, второму – бочонок мальвазеи и бочку рыжиков. Это кроме дач деньгами и красным товаром, просто для дружества.)
Сама она держала в левой руке калач, так от него и не откусив. Все молчат – тоже молчала, на пустые разговоры не тратилась. Пир получался совсем мертвым, будто трапезничали немые с глухими.
«Ишь, глаз сонный, – подумала Каменная, сбоку поглядывая на Ивана, – как у щуки, когда готовится кинуться на карася. Поглядим только, кто тут карась, а кто щука».
– Не прикажешь ли, господин великий князь, новгородскими забавами распотешиться? – спросила она, соскучившись слушать, как чавкает и хлюпает князь Углицкий – других звуков на безмолвном пиру не было.
Иван кивнул.
Кивнула и хозяйка – оборотясь к двери.
Оттуда, пройдясь кувырками, на середину выскочили веселы-молодцы, лучшие во всем городе. Начали показывать всякие штуки: запрыгивать другу другу на плечи, кричать звериными и птичьими голосами, представлять то немца, то татарина, то жидовина – потеха. Оба младших князя смеялись до слез, Андрей в восторге даже стучал кулаком по столу. Иван же сидел все такой же немигающий, круглоглазый, словно кот. Не распотешили его веселы-молодцы.
«Ладно, – подумала Настасья. – Проверим, каков ты на девок».
Сомкнула ладони – скоморохи убрались. Вместо них выплыли две сказочные царевны, запели райскими птицами.
Певуний прислала Ефимия, большая по таким делам знатчица. Сказала: одну выберу белую, с звонким голосом, который мужей до самого сердца пробирает; вторую – черную, с хрипотцой, которая пронзает ихнего брата до самых чресел. А ты примечай, на какую Иван больше глазеть станет. Если на первую – значит, не столь он и страшен, подберем к нему отмычку. Если на вторую – дело хуже: сердцем груб, и добром с ним не сладить.
Девки были до того хороши обе, что боярыня поневоле на них загляделась, заслушалась.
Золотокосая, белокожая, пышная выводила мелодию высоко, тоненько, глаза под пушистыми ресницами были томно опущены. Вторая – смуглая, быстрая, тонкая – вторила низко и чувственно, остро стреляла черными глазами.
Андрей с Борисом жадно смотрели на непокрытые женские волосы. В Москве такое можно увидеть только в бане – да и в Новгороде тоже, но певуньи считались скоморошьими женками и головных уборов не носили.
Углицкий князь впился взглядом в черноволосую, Волоцкий – в светлую, а Иван трогал пальцем край золотой ендовы да позевывал.
Значит, и женки ему не любы…
Настасья хлопнула – пение стихло. Девки поплыли прочь, младшие князья разочарованно проводили их глазами.
– Теперь позволь одарить тебя, господин Иван Васильевич, – сказала Григориева. – Баба я вдовая, убогая, так что не взыщи, если бедны дары…
Ну-тко, каков ты на алчность?
Вот тут великий князь ожил, в тусклых очах зажглись огни.
И было от чего.
Денег Настасья дарить не стала, на них смотреть скучно. Слуги внесли мохнатый персидский ковер, ловко раскатив его по полу. Стали один за другим выставлять золотые ковши, будто наполненные разными винами – красным, желтым, зеленым, синим, а это лалы, топазы, смарагды, сапфиры. Потом разложили драгоценное оружие.
Младшие братья повскакивали с мест.
– Иване, меч франкский хорош! – не выдержал Андрей Васильевич. – Ты его в Оружейную палату сложишь, будет там лежать без пользы, а мне такого давно хотелось!
Великий князь будто и не услышал.
– Вам, князья Васильевичи, свои дары приготовлены, – с поклоном сказала Настасья. – Я московский обычай знаю, при государе никого другого одаривать не положено. Потому ваши подарки в другой горнице разложены. Ныне проводят вас, если господин великий князь дозволит.
И снова выплыли певуньи. Смуглая подошла к Андрею Углицкому, пышная – к Борису Волоцкому, и повели их за собой, одного в правую дверь, другого в левую.
Тень улыбки мелькнула на лице Ивана – первое живое движение.
Говорить о деле, однако, было еще рано.
– Вина налей, – шикнула Григориева на стоявшего за спиной слугу. – Пусто у меня, не видишь?
Немолодой, длиннобородый виночерпий сунулся неуклюже, пролил несколько капель на скатерть. Настасья с размаху стукнула его серебряной ложкой по костяшкам – больно. Тут великий князь улыбнулся пошире, с превосходством: его отроки прислуживали ловчее.
Настасья же еле сдержалась, чтобы не ударить бородатого еще раз. Ишь, прилип, словно репей. Какой при нем разговор?
Иван сделал знак кравчему.
Тот объявил, будто о великом событии:
– Государь великий князь желает облегчиться.
С чего бы это, удивилась Каменная, вроде не ел и почти не пил.
Сказала:
– Слуги проводят до нужного чулана.
Кравчий уставился на нее в изумлении.
– Государь не выходит. Все прочие выходят, а он остается, – укоризненно пояснил Борисов, словно Настасья должна была знать кремлевские порядки.
Наместника покатили прочь, вышла и Григориева, пытаясь представить себе – каково это, если великому государю принуждится на большом пиру, где сидят двести или триста человек. То-то, поди, в дверях давка! Ну москвичи, ну потешники…
В залу уже семенил слуга с серебряным тазом и утиральником.
Мысленно плюнув, Настасья ускорила шаг. За нею, оглядываясь, тащился неуклюжий виночерпий.
– Коли так, схожу-ка пока что и я опорожнюсь, – молвила вслух боярыня, повернула за угол – и тут ее принял за локоть человек в багряном кафтане. Шепнул:
– Идем, государь ждет.
Удивившись, но не слишком (ах, вон оно что!), она вернулась в залу другой дверью. Ни кравчего, ни слуги с тазом там не было. Иван стоял у стола, длинный и сутулый, похрустывал пальцами.
– Вот теперь поговорим, Настасья Юрьева, – сказал он скрипучим, будто ссохшимся голосом. – Без доглядчика от Борецкой.
– Откуда ты, княже, знаешь? – поразилась Григориева.
По условию на время пира был к ней приставлен верный Марфин человек, вечевой дьяк Назар – под видом виночерпия: чтобы всё видеть, слышать и потом Борецкой пересказать.
Ответа на вопрос не последовало. Ах да, у московских великому князю вопросов не задают.
Иван Васильевич, весь вечер просидевший к Настасье боком, ни разу головы не повернувший, сейчас смотрел ей прямо в глаза.