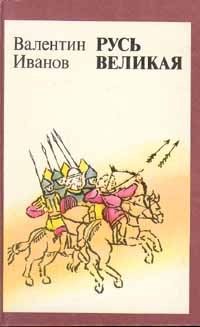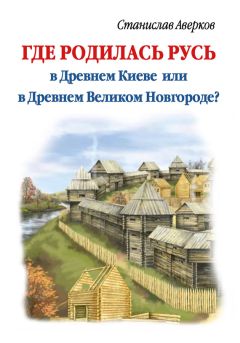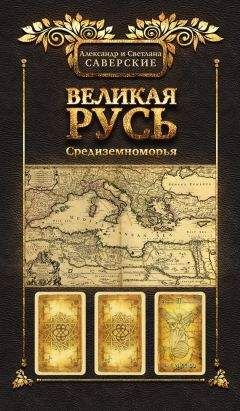Андрей Упит - На грани веков
4
До полудня ратники шагали по знакомым местам. За большими болотненскими лесами, мшаринами и торфяниками началась открытая холмистая возвышенность с березовыми и осиновыми рощами, а по ту ее сторону, далеко к северу, синел необъятный окоем леса. Дорога по неглубоким низинам и невысоким пригоркам, извиваясь, тянулась прямо туда. Робко прижавшись к рощам, притаились крестьянские усадьбишки, такие же нищие и невзрачные, как и в Болотном. Зато слева, на высоком взгорье, над верхушками липовой аллеи и парка, гордо высились красные крыши имения и две башни; серая — замка и белая — церкви. Словоохотливый болотненский житель, по кличке Комариный Бренцис, точно знал, что за люди тут живут. Всего на этой равнине три волости с тремя имениями — остальные отсюда не видать. Все три вместе с волостями принадлежат Бешеному Динсдорпу, самому лютому живодеру и кровопийце во всей Видземе. Трезвый, он еще ничего, но это случается только трижды в году, когда барон ходит в церковь каяться в грехах, бросается там на колени, бьется лбом о спинку скамьи и приказывает угощать и поить в имении всех нищих и калек, которых в его волостях избыток. В восьми корчмах Динсдорпа люди оставляют последний грош. Верно или нет, но сказывали, что во всех трех волостях только двое хозяев носят сапоги. А баронесса Динсдорп, сказывают, убежала от мужа, потому как во хмелю он даже над нею измывался. И шведы ничего не могли с ним поделать, потому что он умел провести присылаемых властями ревизоров, а в земельном и замковом судах у него друзья-приятели, подати казне он всегда платит вдвое. Жалуются ли на него крестьяне, судится ли он с соседями — барон всегда одерживает верх.
Поднявшись на довольно высокий холм, Комариный Бренцис махнул рукой в сторону другого холма. Перед густой сосновой порослью грудились постройки с ладными соломенными крышами, высились четыре трубы, даже несколько окошечек блеснуло. Это Осиновое, в восемь крестьянских дворов. Дорога вела мимо них. Осиновое уже не принадлежит Динсдорпу, он его проиграл в карты какому-то другому барину, что живет верст за тридцать отсюда. Пятнадцать лет судился, все хотел оттягать свое добро, но вот тут-то впервые сорвалось: выиграл дело не кто иной, а заслуженный шведский майор, он оказался куда сильнее. С той поры Динсдорп еще больше взбесился, и на то имелись вполне понятные причины. Мужики в Осиновом живут привольнее и зажиточнее, показывая всем в округе дурной пример и возбуждая предосудительное стремление к более или менее сносной жизни. С подвластными майору людьми ничего нельзя сделать, тащить их в каретник барон не имеет права. Дело дошло до того, что бывшие крепостные Динсдорпа чуть ли и шапки не перестали снимать, когда он проезжал мимо. Динсдорп всячески старался отомстить им. Не давал дров из леса, но мужики обходились и своей рощей, где деревья прямо как грибы росли. Запретил корчмарям продавать им пиво и водку, но тогда люди майора приспособились гнать дома такое доброе питье, что даже окрестные динсдорповские крестьяне наведывались к ним тайком угоститься — ясное дело, к великому урону своего господина и восьми корчмарей. Однажды он даже надумал перегородить эту самую дорогу, чтобы жители Осинового не могли попасть ни туда, ни обратно. На том и другом конце своих границ поставил рогатки и караульных парней, да только тут дело кончилось для него вовсе нескладно. С утра, значит, на дороге рогатки, а после обеда подъезжает к ним какой-то большой шведский военный чин — охотился в имении владельца Осинового. «Это что за штука, почему еловые рогатки поперек дороги?» — «Так и так, ему объясняют, господин Динсдорп не желают, чтобы люди отставного майора ему дорогу портили». Чин даже кровью налился: «Это еще что за новости — его дорога! Дороги — они для всех, никто никому не может запретить по ним ездить!» Созвал осиновских крестьян, повелел убрать все рогатки, свалить в костер и сжечь. Через неделю Динсдорпу прибыло извещение явиться в Ригу — пятьсот талеров штрафа, а иные божатся, что еще и три дня в тюрьме ему пришлось отсидеть.
Своим рассказом Комариный Бренцис просто восхитил ратников. Что может быть приятнее, если какому-нибудь барину тоже приходится несладко! И когда взбирались на Осиновую гору, даже котомки показались куда меньше и мушкеты легче. Кто посмеивался, кто еще расспрашивал, а кто помоложе — так и посвистывал.
В селении устроили привал. Посередине поляны — качели, еще с Пасхи, мальчишки и сейчас висли на них; сразу видать, что свободно живут, прямо как вольные. Вода в колодцах чистая и прохладная, жаждущие путники припали к ней, только изредка отрываясь, чтобы перевести дух. Осиновцы оказались очень гостеприимными. Узнав, что это за люди и куда направляются, даже бочонок пива на поляну выкатили. Им уже тоже объявляли о созыве ополчения, но прямого распоряжения еще не было, к тому же они были уверены, что майор сумеет избавить своих людей от этой неприятной повинности. До чего же избалованный народ, даже позавидуешь этаким!
Сразу же за равниной начались огромные незнакомые леса, в которых никто из отправившихся в поход еще не бывал, но зато осиновцы могли рассказать о дорогах по крайней мере в пределах дневного перехода. Надо думать, что и самый бескрайний лес должен где-нибудь кончиться, а за ним опять начнутся поля с населенными дворами. Отдохнув, ополченцы в бодром настроении направились вниз с Осиновского взгорья снова на север и только на север.
Постепенно рыжея, лес утратил синеву. Вот уже отчетливо виден сосняк, да только не очень высокий, — может быть, там мочажинник или мшарина. Навстречу выехала блестящая лакированная коляска, запряженная парой вороных; в коляске барин с мамзелькой, на козлах бородатый кучер и паренек в сером кафтане с медными пуговицами, верно, слуга. Когда приблизились, стало видно, что у барина во всю грудь рыжая борода лопатой, а обрюзгшее лицо, цвета медной кастрюли, поперек себя шире. На ополченцев только что начало действовать осиновское пиво; они шагали по четыре в ряд, даже и не собираясь уступать дорогу. Барин склонился, навалившись на зажатую между коленями суковатую палку, — верно, страдал от ломоты в костях. Тяжелые веки поднялись, блеснули злые глаза, точно как у Холгрена. Комариный Бренцис воскликнул так громко, что даже в последнем ряду могли услышать:
— Ей, право, этот самый и будет Динсдорп!
Возможно, так оно и было, ведь нечистый, стоит его только помянуть, тут как тут. Сытые вороные повернули головы в одну, в другую сторону, потом остановились, чуть не ткнувшись мордами в первый ряд, в котором шли Криш, Марч, Гач и Юкум. Кучер побагровел, как и его господин. Надо полагать, что от крика рот у него разъехался до ушей, но из-за большой бороды это не было видно.
— Дорогу, рвань этакая, коли господа едут! Тащатся, ровно бараны!
Болотненские уже жались к обочине, да и лиственские струхнули, но пока что выжидали — что станут делать сосновцы. Эка уже очутился по ту сторону канавы, Тенис старался спрятать мушкет за спину Клава, будто украл оружие или нес его с каким-то злым умыслом. Остальные, кинув взгляд на Мартыня, не шевельнулись. А он, сверкая глазами, уже спешил сюда из задних рядов.
— Чего орешь, борода! Сам сворачивай, места хватит! Не видишь, что войско идет?
Верно, бородач так и поступил бы, во всяком случае он уже подтянул вожжи, и стычка закончилась бы более или менее мирно. Но все испортил второй бородач — сидевший в коляске. Лицо у него стало уже не бурым, а сизым; опираясь на узловатую палку, грузный, задыхающийся, он в безумном гневе выскочил из коляски. Голос его нимало не напоминал человеческий голос, скорее, это был рев разъяренного быка:
— Скоты! Псы! Падаль этакая! Я вас научу господ почитать!
Палка его взлетела над головой Мартыня. Но тут Криш, точно молодой олень, одним прыжком выскочил из рядов, приклад тяжелого мушкета грохнул по широкому лбу, тотчас же алая струя по носу хлынула в бороду, трость упала за спиной барина, руки скользнули вниз; барин потоптался так, будто кто-то выдергивал у него землю из-под ног, потом повалился на коляску. Удар был не смертельный, только оглушило. Стычка и сейчас еще могла закончиться на этом, потому что кузнец так же быстро приладил обратно меч, как и выхватил его. Но на этот раз безумцем, полезшим на рожон, оказался кучер. Отчасти сказалась выучка ладно вымуштрованного господского кнутобоя, отчасти просто потому, что ополоумел с перепугу. Кнут свистнул в воздухе, конец его, с завязанным узлом резко обернулся вокруг шеи Криша. Тот громко вскрикнул. Крик его, точно искра, попавшая в порох, мгновенно потряс всех сосновцев и добрую половину лиственцев. Люди гурьбой навалились на господскую коляску, за ноги стащили наземь рыжебородого, схватили его не то шесть, не то восемь пар рук. Кучер перелетел через головы и шмякнулся на покрытый жидкой грязью гравий. Поначалу он упал навзничь, потом вверх тормашками и еще раз навзничь — его толкали, пинали, кто-то выдернул у него из штанов рубаху, завернул на голову, другой стянул штаны, у Клава в руках уже очутился кнут. Засвистел он совсем не так, как когда обвился вокруг шеи Криша; кучер вопил истошным голосом. Слуга все это время сидел белый словно мел, а тут взвился, как подкинутый, соскочил с козел, махнул через канаву и припустил по полю такими скачками, что иная собака, будь у нее ноги покороче, и не догнала бы его. У мамзельки, забившейся в угол коляски, глаза округлились, как у курицы, рот широко раскрылся; следуя примеру слуги, выпорхнула и она, перепрыгнула через канаву, пробежала немножко, споткнулась в овсах, запутавшись в своих юбках, растянулась и заскулила. Двое мужиков за шиворот стащили барина с дороги и перекинули через канаву, так что ноги остались на дне ее, а голова на том краю. Двое других так же оттащили кучера и бросили рядом с барином. Увлеченные борьбой, подскочили и те, кто еще не успел в ней участвовать, и, выхватив мечи, направились к этой проученной двоице, чтобы ее прикончить. Но вожак твердо встал на пути, и во всем его облике и голосе было что-то такое, чего нельзя не послушаться.