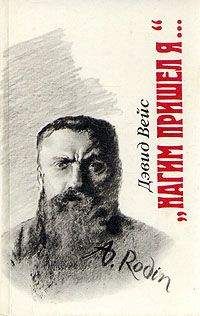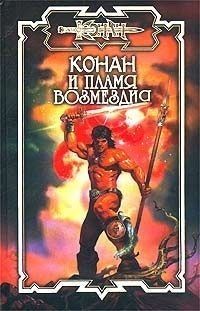Дэвид Вейс - Возвышенное и земное
Наннерль прочитала письмо брата Папе; Леопольду к этому времени стало немного легче. И откуда у сына такой фатализм, удивился Леопольд, но Вольфганг прав. Сын стал ему как-то ближе – давно он этого не испытывал. Но писать сам он не мог, а Вольфганг, не получая ответа, мог встревожиться. И Леопольд попросил Наннерль сообщить брату, что ему гораздо лучше, но написать от первого лица и подписать его именем, а также добавить, что приезжать не надо, сыну следует поторопиться с новой оперой, какой бы сюжет он ни избрал.
Вольфганг с нетерпением ожидал ответа от Папы, и тут как раз ван Свитен обратился к нему с просьбой прослушать молодого виртуоза. Вольфганг хотел сразу же отказаться. Он находился в слишком угнетенном состоянии, чтобы прослушивать еще одного будущего гения, у которого, можно не сомневаться, желания больше, нежели таланта, но барон не отступал.
– Я хотел предупредить вас заранее, но в воскресенье вы не пришли. – Это прозвучало упреком.
Вольфганг спросил:
– Не мог бы кто-нибудь другой его прослушать?
– Он признает только Моцарта.
– Он признает! Кто он, побочный сын императора? Ван Свитен поразился: таким раздраженным он видел,
Вольфганга впервые. Вероятно, отец его совсем плох. И уже более спокойно барон сказал:
– Я с грустью узнал о болезни вашего отца. Понимаю, как много он для вас значит.
– Благодарю. К сожалению, голова у меня сейчас действительно занята не тем.
– Знаю. Но юноша приехал из Бонна специально, чтобы учиться у вас. Разумеется, в том случае, если он вам поправится. Не могли бы вы послушать его сегодня?
– А кто будет за него платить?
– Я. Если его талант вас заинтересует.
Вольфганг, все еще настроенный скептически, сомневался, стоит ли тратить время, но в конце концов дал согласие попозже вечером послушать игру мальчика. К тому времени как ван Свитен привел своего нового протеже, Вольфганг успел о нем позабыть. Он увлеченно писал для Энн новую арию, которую собирался послать ей в Лондон. Появление юноши застало его врасплох и даже рассердило.
Шестнадцатилетний Людвиг ван Бетховен обладал не располагающей внешностью. Рябоватое, смуглое с румянцем лицо, маленькие блестящие глазки и грубые, словно высеченные из камня, черты. Благодаря сильному рейнскому акценту речь его звучала совсем немузыкально, как-то гортанно. Бетховен стоял неуклюже сгорбившись, с угрюмым выражением на лице, не зная, куда деваться от неловкости. И в то же время во всем его облике ощущалась какая-то странная настороженность. Вольфганг не мог понять – то ли от самонадеянности, то ли от робости.
Бетховен вдруг протянул Моцарту руку. Он похож на неуклюжего медвежонка, подумал Вольфганг, и, хотя жест юноши удивил его своей неожиданностью, он ответил на рукопожатие и едва не вскрикнул от боли, когда Бетховен изо всей силы стиснул его кисть.
Какая маленькая рука у Моцарта, отметил про себя Бетховен, не удивительно, что капельмейстер славится изяществом исполнения; собственная лапища показалась ему по сравнению с рукой Моцарта ужасно грубой и потной, и от этого юноша пришел в еще большее замешательство. Его сильный удар и энергичная манера игры не могут прийтись по вкусу этому изысканному человечку.
Ван Свитен сказал:
– Молодой Бетховен имеет за плечами много успешных выступлений. Он великолепно играет на фортепьяно, на органе, на скрипке, на альте…
– Ну вот пусть и сыграет. Бетховен, у вас есть какие-нибудь любимые сонаты?
– Одна из ваших, – буркнул юноша, – если вы ничего не имеете против…
– Не имею, – сказал Вольфганг. Но стоило Бетховену заиграть, как он уже был против: ему не нравилось все – и неотшлифованность игры, и напряженный вид юноши, и его слишком грубое туше. Шестнадцатилетний Бетховен играл не лучше Гуммеля, только тому исполнилось всего девять лет.
Когда Бетховен закончил, ван Свитен извиняющимся тоном произнес:
– Людвиг больше всего играл на органе – он ведь служит в церкви. Поэтому его туше грубее, чем у тех, кто начинает с клавесина.
Юноша нахмурился.
– Я играл в правильном темпе, – сказал он. Вольфганг молчал.
– Разве не так? – Тон юноши стал уверенным, почти вызывающим.
– Да. – Вольфгангу пришлось признать, с темпа Бетховен ни разу не сбился.
– Можно мне поимпровизировать, господин капельмейстер?
В устах юноши это прозвучало скорее как требование, а не как вопрос. Манеры прескверные, думал Вольфганг; в какой-то момент Бетховен производил просто жалкое впечатление, но уже в следующий распрямлялся и напускал на себя высокомерный вид. И все же такая сила и напряженность чувствовались в нем, что Вольфганг кивнул, далеко не будучи уверен, правильно ли делает.
– Дайте мне тему для импровизации.
Вольфганг дал тему, и Бетховен стал ее развивать; вначале игра его поражала только своей мощью, но вскоре она обрела удивительную красоту. Бетховен приостановился, и Вольфганг дал знак продолжать; теперь игру Бетховена уже нельзя было назвать тяжелой, она сделалась просто уверенной и решительной. Импровизации Бетховена не настраивают на спокойный лад, подумал Вольфганг, но в них столько оригинальности, воображения и экспрессии! И лучше всего его звук – певучий и чистый. Да, в таланте этому юноше не откажешь.
Моцарт сидел молча, с отрешенным видом, и юноша подозрительно посмотрел на композитора: видно, маэстро пе понравились его импровизации.
– Ну? – нетерпеливо спросил ван Свитен. – Ваше мнение, Вольфганг?
– Внимательно прислушайтесь к его игре. Его музыка покорит весь мир, – сказал Вольфганг.
– Но вы-то беретесь его обучать? Пока она еще не покорила?
Вольфганг взглянул на юношу, мрачный как туча, тот порывисто поднялся из-за фортепьяно; доведется ли этому Бетховену пережить когда-нибудь в жизни счастливые минуты, раздумывал Вольфганг. И тут юноша попросил:
– Вы не откажетесь, маэстро, прошу вас!
С его стороны это уже немалая уступка, подумал Моцарт и сказал:
– Приходите через неделю, и мы составим расписание уроков.
– Меня больше интересует искусство композиции, нежели исполнение. Играть лучше или хуже может кто угодно, а вот сочинять музыку – дело, достойное мужчины.
– Верно.
– И вы, господин капельмейстер, мой любимый композитор.
– Я надеюсь, под конец наших занятий вы не измените своего мнения.
Вольфганг начинает язвить, подумал ван Свитен и сказал:
– Бетховен, может, вы сыграете нам еще свои вариации?
– Ни к чему. Господин капельмейстер слышал, на что я способен.
– Он прав, – сказал Вольфганг и, провожая Бетховена до дверей, подумал, как жаль, что юноша такой угрюмый, с ним будет не так-то легко подружиться.
Но через неделю ученик не появился в его доме. Молодой Людвиг ван Бетховен, у которого серьезно заболела мать, вынужден был вернуться в Бонн.
Может, это и к лучшему, решил Вольфганг: на него самого надвигалась беда. Он снова задолжал за квартиру, и на сей раз домовладелец не желал ждать. Если господин не погасит задолженность, его имущество будет описано, заявили Моцарту. Вольфгангу удалось снова одолжить нужную сумму у Ветцлара и расплатиться с домохозяином: Теперь он переехал в пригород Ландштрассе, где квартирная плата была в три раза ниже.
Через несколько дней после переезда от Папы пришла более бодрая весточка; по почерку Вольфганг определил, что писала Наннерль. Папа интересовался всем, что касалось новой оперы для Праги: какой сюжет он выбрал, будет ли либретто писать да Понте и когда намечается премьера в Праге.
Вольфганг не знал, что ответить, они с да Понте так до сих пор и не нашли подходящего сюжета, поэтому он написал Папе, что ищет настоящий трагедийный сюжет, и снова спрашивал, не нужно ли приехать в Зальцбург.
Прошла неделя, ответ не приходил, а потом Наннерль сообщила, что Папа все в том же положении и приезжать Вольфгангу незачем.
Собственное тело стало для Леопольда источником нестерпимых страданий, он чувствовал себя словно в кандалах. Дочь твердила: «Вы будете жить еще долго-долго, Папа», но ему не хотелось больше жить. Терзаемый невыносимой болью, он не испытывал никакого желания тянуть это существование, превратившееся в нескончаемую пытку. Он забывался только во сне, но и спать мог лишь урывками.
А потом у него начался бред, он слышал, как говорит Вольфгангу: «Я человек разумный и всегда пытался внушить тебе, что бедность лишает человека свободы; я вовсе не так уж люблю деньги, но без них человек беспомощен». Они стояли рядом, и Леопольд никак не мог понять, где находится, такого с ним еще не бывало. Но оба они – старик и молодой – смотрели друг другу в глаза, и одинаковая любовь светилась в их взглядах. Чистый юношеский голос пел серенаду, нежные звуки ее устремлялись ввысь. «Красивая песня», – сказал старик. «Это то, чему вы меня научили», – ответил молодой.