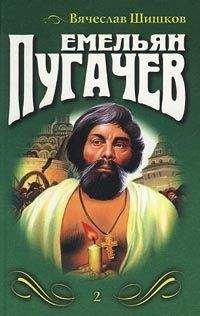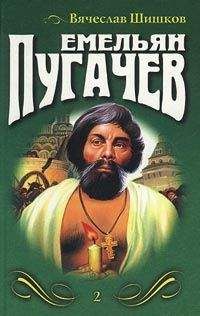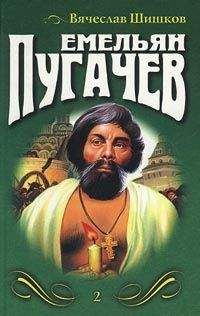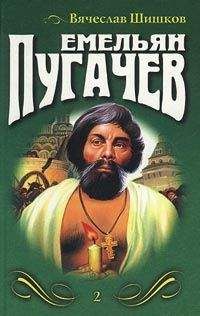Константин Федин - Костер
Рубеж июня 1941 года стал для Пастухова началом переломки, перестройки, мучительной переоценки собственной жизни и попытки нравственного возрождения. Показать столь сложный процесс в душе немолодого человека — это ли не задача для художника?
Поначалу Александр Владимирович представлен прежним Пастуховым. Его самохарактеристика — «человек физиологический» — развернута в полную меру. С нескрываемой иронией описываются дачные заботы по устройству какой-нибудь клумбы, дача — это явно его слабость, его детище, не потому ли, как остроумно заметил критик М. Кузнецов, что на этой даче, в этом роскошном саду «все чуточку (самую чуточку!) напоминает миниатюрнейшее имение…». Сюда же можно отнести и его хлопоты вокруг постановки своих пьес, его позерство, вернувшуюся былую барственность, тщеславие — словом, все то, что Алексей определил как «цельный характер».
Но «цельный характер» оказывается не вовсе окостенелым, омертвевшим, не вовсе порабощенным своими привычками, комфортом, «светским» браком с неглупой, злой и очень хорошо знающей, чего она хочет, Юлией Павловной.
Пришедшая на землю русскую беда не может оставить Пастухова равнодушным, более того, не может не изменить. Вообще-то он всегда был крупнее собственного поведения и образа жизни — это заметно еще в первых романах: Александр Владимирович словно пригибается и съеживается, чтобы влезть в свой образ. Теперь же порою хочется поспорить с автором: неужели при всех своих недостатках Пастухов все же таи мелок, каким проявляет себя в первые дни войны? Конечно, не только он не сознавал тогда масштабов трагических событий, но его легкомыслие, поглощенность собственными делишками — просто вопиющи!
Странное дело! Цветухин тоже, казалось бы, не изменился, он верен себе во всем — и в коньячке, и актерском самолюбовании, даже в удалом (увы, ресторанном) поцелуе, какой он пытался навязать Аночке. Но к нему не испытываешь той смеси досады и порою презрения, что к Александру Владимировичу. Вероятно потому, что, кому много дано, с того много и спросится. Цветухин куда проще и естественнее давнего приятеля. Его позерство как-то по-детски чисто. Вот в хаосе бегства, в страшный день 22 июня он горделиво размышляет о том, как спасет Аночку: «…она по-настоящему узнает его, Цветухина! Он вырвет ее из этого хаоса. У него достаточно мужества. Вот все бегут, мчатся, не помня себя. А он идет уверенным шагом. (…) Величаво, пренебрегая опасностями. Пусть все смотрят» и т. д. И хотя авторская ирония вдобавок усугубляется тем, что не Цветухин Аночку, а она спасает его, по-человечески Цветухин близок и понятен, хотя и немного по-стариковски смешон. Он никогда и нигде не искал выгоды. Он легко и просто находится там, где большинство. Пастухов почти всегда держится наособицу. Федин подчеркивает различие Пастухова и Цветухина и тем, в каких разных местах и условиях встретили они первый день войны.
Александру Владимировичу еще потребуется время и силы для того, чтобы, по меньшей мере, круто осудить себя или, по словам его сына, «пробудиться» от нравственной спячки.
Освободившись временно от постылой «Юленьки», Пастухов пытается работать. Здесь Федин совершенно естественно обращается к, казалось бы, литературоведческим вопросам: как быть, если всю жизнь «главным своим оружием Пастухов считал иронию! Ирония не годится в друзья пафосу. Прекрасное же всегда патетично». Оказывается, то, чем Пастухов с успехом занимался десятки лет, — стало вдруг никому не нужно, устарело и списано! Не потому, что людям не нужен смех. Но в дни войны всегдашняя ухмылистая наблюдательность, которая переполняла пьесы Пастухова, стала лишней и неуместной. Многое вдруг понимает он, когда вместе с толпой, охваченной волнением, на вокзале слушает по радио впервые исполняемую «Священную войну». «Песня есть — все есть!» — кричит какой-то командир, и Пастухов понимает, что отныне «все должно быть иначе».
Центральной точкой, пиком «пробуждения» Пастухова становится его приход в Ясную Поляну.
Верный себе, Константин Федин не собирается отказываться при этом ни от иронии, ни от вполне бытовых и даже малоизящных мотивов, которые занесли драматурга в толстовское гнездо: привела его сюда неугомонная деятельность Юлии Павловны по изысканию безопасного местечка. Но важным оказывается не это, а то, что испытал Пастухов в Ясной Поляне, его раздумья, его строгий нравственный самосуд. Перед стенами яснополянского дома Пастухов припадает к имени Толстого, надеясь обрести — и обретая то, чего ему всю жизнь не хватало. Он вспоминает себя, тридцатилетнего, когда он мог бы приехать сюда и увидеть Толстого, но «Пастухов действительно не мог нуждаться тогда ни в чем от старца, кроме того, чтобы в багаже своего тщеславия иметь историю поездки в Ясную Поляну…»
Теперь же, чувствуя себя маленьким и бессильным, растерявшим всегдашнее красноречие перед лицом трагических событии и тени Толстого, видя, что «все, как тогда, — значит, отстоим, пересилим?» — т. е… как в 1812 году, как в «Войне и мире», недоумевает: «Как же Пастухов осмелился подумать, что Толстой не был провидцем?» —
Сын его, Алеша, и многие-многие воины приходят в эти дни в Ясную Поляну, к которой подошла война, чтобы прикоснуться к силе русского духа. И уже молит растерявшийся, ищущий опоры старый благополучный литератор: «Укажи, укажи, — думал он, обращаясь к Толстому, — дай мне отеческий совет — ты мог бы ведь быть мне отцом, если бы я был другим, если бы с начала жизни я был всегда честен, прям и смел!» «Может, Алеша и впрямь угадал правду? Может, Толстой сказал бы просто: если ты способен стать у пушки и палить из нее, как палил в восемьсот пятом году капитан Тушин, иди и пали во славу земли русской?! И, может быть, спросил бы вдобавок: зачем ты, Пастухов, ходишь и выспрашиваешь, когда сам знаешь, что сейчас человек должен делать? И тогда или теперь, в сорок первом, Толстой добавил бы к тому, что уже сказал: срам тебе, Пастухов…»
Особое значение приобретает встреча в Ясной Поляне с сыном Алешей, одним из четырех молодых офицеров, использовавших короткую передышку, чтобы побывать на родине и могиле национального гения. Пастухову как бы дается возможность, скорее всего последняя, отрешиться от прежнего недостойного его существования: «Новый, неизвестный Пастухову, возмужалый и, да, конечно, жестоко разгневанный — человек сидел рядом». Это тот сын, любовью которого «Пастухов мог гордиться» и которого он предал. И именно он, столь хорошо знавший отца, с проницательностью мудреца определяет: «Мне кажется, тебя должно было что-то сюда привести. Может, в эти дни ты должен был себя упрочить прикосновением к самому драгоценному в своей жизни…» Именно он ободряет его, на удрученный вопрос: «Ты, значит, еще не махнул на меня рукой? — отвечая: «В этом смысле я никогда не махну на тебя рукой».
Самым драгоценным в жизни Пастухова — то, о чем говорит Алексей, — было и оставалось искусство. В записных тетрадях к роману есть план того, как Пастухов найдет в себе силы написать статью высокого патриотического накала — о немцах в Ясной Поляне. Увы, это станет последним его произведением. Потом ему не удается удерживаться на высоте того священного гнева, который охватил его при известии о том, как хозяйничали оккупанты в Ясной.
Из тех же подготовительных материалов узнаем, что стареющему Александру Владимировичу немногое удалось. Его эвакуационные мытарства проходят все же под знаком потерянных чемоданов, каких-то мелочных забот, раздражения на себя. Прихотью судьбы его с Юлией Павловной из-под Тулы заносит в тихий домик в Васильсурске, на берегу реки, в котором — совсем так, как мечталось в 1919 году, жили-поживали Елизавета Мешкова с мужем Ознобишиным и сыном Витей Шубниковым.
В этом порой унылом, порой, видимо, комическом (в набросках — и увлечение Ознобишина и Пастухова спиритизмом) бытье в заброшенном городишке Пастухов, по словам автора, был раздираем «борьбой двух чувств: исполнить долг и скрыться от долга».
Он мало сумеет исполнить — смерть его не за горами, но вот к каким знаменательным приходит мыслям: «К чему прибиться? Мы (такие вот, вроде меня — особенно), отколотые друг от друга, когда история грянула революцией, рассыпались в пыль, кто куда. (…) Пока поняли, что к кому-нибудь надо прибиться; чтобы не унесло с пылью, прошло время. А история решила за нас: ежели и есть, к кому прибиться, так это к большевикам. Большевики тем крепки, что держатся один за другого. Понимают лучше всех, что, отцепись они друг от друга, — их тоже разнесет по ветру, как нас…»
И, наконец, последним и самым значительным в линии Пастухова, какой мы можем довообразить ее себе по подготовительным материалам, стало бы то, что вероятным эпилогом «Костра» автор видел статью Пастухова, которую бы тот готовил перед смертью (или которая осталась бы после него). Потому-то прав В. Шкловский, оспоривший некоторый нажим (особенно в первой книге романа) на мелкие черты Александра Владимировича: «Писатель Пастухов, который написан так, что мы не можем презирать его, не можем поверить, что для него в годы войны главное были чемоданы».