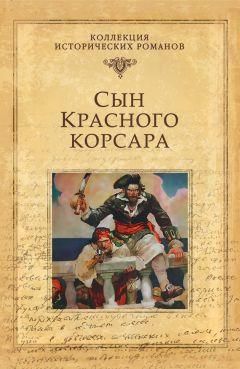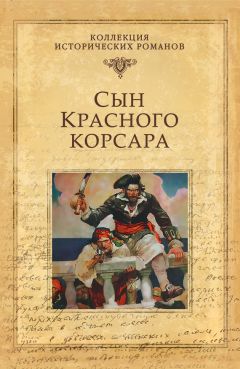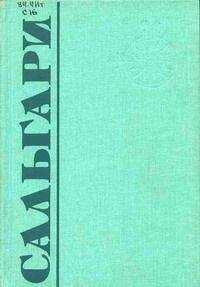А. Сахаров (редактор) - Александр I
Услышал шорох; рядом стоял Саша и тоже смотрел на пятна; потом взглянул на государя и, должно быть, увидел в лице его то, что тогда, в своём страшном сне, – закричал пронзительно и бросился вон из комнаты.
Над обоими, над сыном и внуком Павловым, пронёсся ужас, соединивший прошлое с будущим.
Отъезд государя в Таганрог назначен был первого сентября, а государыни третьего.
Накануне вернулся он в Петербург из Павловска, где простился с императрицей-матерью, и в назначенный день выехал из Каменноостровского дворца, в пятом часу утра, когда ещё горели фонари на тёмных улицах. Один, без свиты, заехал в Невскую лавру и отслужил молебен.
Когда миновал заставу, взошло солнце. Велел кучеру остановиться, привстал в коляске и долго смотрел на город, как будто прощался с ним. В утреннем тумане дома, башни, колокольни, купола церквей казались призрачно-лёгкими, готовыми рассеяться, как сновидение. Потом уселся и сказал:
– Ну, с Богом!
Колокольчик зазвенел, и тройка понеслась.
В Царском присоединились к нему пять колясок: ваген-мейстера полковника Соломки,[267] метрдотеля Миллера, лейб-медика Виллие, генерал-адъютанта Дибича и одна запасная.
У государя была маленькая маршрутная книжка с названиями станций и числом вёрст. Всего от Петербурга до Таганрога 85 станций, 1894 3/4 версты. Он должен был сделать путешествие в 12 дней, а государыня – в 20.
Маршрут, по Белорусскому тракту, а с границы Псковской губернии – по Тульскому, нарочно миновал Москву: нигде никаких церемоний, ни парадов, ни встреч.
Проехали Гатчину, Выру, Ящеру, Долговку, Лугу, Городец. Государь заботливо осматривал приготовленные для императрицы ночлеги, но сам ехал, не останавливаясь, и спал ночью в коляске.
Стояли лучезарные дни осени. Каждый день солнце ясно всходило, ясно катилось по небу и ясно закатывалось, предвещая назавтра такой же безоблачный день. В воздухе – гарь, дымок из овинов, и нежность, и свежесть, как будто весенние. На гумнах – говор людской и стук цепов, а на пустынных полях – тишина, как в доме перед праздником; только журавлей в поднебесье курлыканье, туда же несущихся, куда и он.
Чем дальше он ехал, тем легче ему становилось, как будто спадала с души тяжесть, которая давила его все годы, и он просыпался от страшного сна. Казалось, что уже отрёкся от престола, покинул столицу и никогда не вернётся в неё императором; а там, куда едет, – разрешение, освобождение последнее. Не потому ли в кликах журавлиных – зов таинственный, надежда бесконечная?
В одну из первых ночей, проведённых в пути, приснился ему сон: маленький уездный городок, маленькие жёлтенькие, с чёрными оконцами, домики, точно игрушечные, плохо нарисованные. Небо – тёмно-лиловое, как бывает зимним вечером; но не зима и не вечер, а осень весенняя, утро вечернее; солнца не видно, но оно во всём, – как будто изнутри светится; и всё – такое счастливое, милое, детское, райское. А вот и Софья, и князь Валерьян Голицын; что-то говорят ему, он хорошенько не понимает что, но чувствует радость, какой никогда не испытывал. «Так вот оно как, а я и не знал!» – смеётся и плачет от радости; молиться хочет, но молиться не о чем: всё уже есть, – всегда было, есть и будет.
Проснулся: «Так вот оно как, а я и не знал!» – думал наяву, как во сне, и плакал от радости.
Оглянулся: темно ещё, но по тому, как звёзды дрожат, видно, что утро близко. Не узнавал местности: луговые скаты, а за ним – полукруг холмов лесистых в звёздном сумраке. Слышится далёкий колокол, – должно быть, из Феофиловской пустыни:[268] значит, близко Боровичи.
Коляска въезжала на холм. Вдруг, на краю неба, там, куда уходила дорога, увидел он звезду незнакомую, огромную, необычайно яркую; за нею тянулся по небу светящийся след, а сама она как будто стремительно падала вниз. И в этом падении был зов таинственный, надежда бесконечная.
Вспомнилась ему комета 1812 года. Как та казалась – гибели, а была спасения вестницей, – так, может быть, и эта?
Когда коляска поднялась на вершину холма, он велел кучеру остановиться; так же как намедни, на петербургской заставе, прощаясь с городом, встал, снял фуражку и перекрестился.
– «Небеса проповедуют славу Господню, и о делах рук Его вещает твердь», – прошептал благоговейным шёпотом и, радуясь, чувствовал, что радость эта у него уже никогда не отнимется. Ни о чём не молился, только благодарил Бога за всё, что было, и за всё, что будет.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Князь Валерьян Михайлович Голицын, приехав ночью в уездный городок Васильков, в тридцати верстах от Киева, остановился в скверной жидовской корчме, а поутру нанял хату у казака Омельки Барабаша.
– Вот моя хата, пане добродию, – говорил хозяин с ласковой важностью, приглашая гостя войти. – Вот у меня и куры ходят, вот и теля, вот и пасека, вот и жито растёт перед хатою, – выйди, да и жни: вся благодать Божья! А жинка моя варит борщ такой, что хоть бы самому городничему: у панов жила и понаучилась всяким панским роскошам.
Когда Голицын оглянул белую хатку под нахлобученною соломенною крышею с гнездом аиста и занесёнными ветром пучками полевых цветов, – в уютной тени вишнёвого садика с рядами белых ульев, то согласился с хозяином, что тут вся благодать Божья.
А внутри ещё лучше: выбеленные мелом стены, глиняный пол, расписная печка – под ней воркуют голуби, на ней мурлычет кот; образница с Межигорской Божьей Матерью, убранная сухими цветами – алым королевским цветом, жёлтым чернобривцем и зелёным барвинком.
Когда смуглая Катруся принесла ему студёной воды из криницы, а древняя бабуся Дундучиха, Омелькина мать, вытерла скамью подолом плахты,[269] приглашая гостя сесть, и, глядя на него из-под морщинистой ладони подслеповатыми глазами, спросила:
– А та хиба не тутешний? – то гость почувствовал себя уже совсем дома.
В тот же день, вечером, узнав о приезде Голицына, – о чём весь городок уже знал, – явился к нему молоденький, лет 22-х, полтавского пехотного полка поручик, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, и пригласил его к директору васильковской управы Южного тайного общества, подполковнику Сергею Ивановичу Муравьёву-Апостолу. У Муравьёва, по словам Бестужева, два члена нового, никому из Южных не известного, тайного общества так называемых Славян ведут сейчас переговоры о соединении с Южными; Голицын был бы очень кстати на этих переговорах как представитель Северных.
Муравьёв жил на Соборной площади в деревянном ветхом сером домике с облупившимися белыми колонками. Хозяин с двумя гостями, артиллерийскими подпоручиками, Иваном Ивановичем Горбачевским и Петром Ивановичем Борисовым,[270] пили чай на крылечке, выходившем в сад. В саду была заросшая тиною сажалка, а за нею бахча и пасека; душистой вечерней свежестью веяло оттуда – укропом, мятой, мёдом и зреющей дынею.
– Наш план таков, – говорил Бестужев, – в следующем, 1826 году, на высочайшем смотру, во время лагерного сбора 3-го корпуса, члены общества, переодетые в солдатские мундиры, ночью, при смене караула, вторгшись в спальню государя, лишают его жизни. Одновременно Северные начинают восстание в Петербурге увозом царской фамилии в чужие края и объявляют временное правление двумя манифестами – к войскам и к народу. Пестель, директор тульчинской управы, возмутив 2-ю армию, овладевает Киевом и устраивает первый лагерь; я начальствую третьим корпусом и, увлекая встречные войска, иду на Москву, где лагерь второй, а Сергей Иванович едет в Петербург, Общество вверяет ему гвардию, и здесь лагерь третий. Петербург, Москва, Киев – три укреплённых лагеря – и вся Россия в наших руках…
Маленький, худенький, рыженький, веснушчатый, то, что называется замухрышка, он, когда говорил, как будто вырастал; лицо умнело, хорошело, глаза горели, рыжий хохол на голове вспыхивал языком огненным. Верил в мечту свою, как в действительность; сам верил и других заставлял верить.
– Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия; и Пензенский полк, и Черниговский – хоть сейчас в поход. Да и все командиры всех полков на всё согласны… Вождь Риего[271] прошёл Испанию и восстановил вольность в отечестве с тремястами человек, а мы чтобы с целыми полками ничего не сделали! Да начни мы хоть завтра же – и 60 000 человек у нас под оружием…
– Ну полно, Миша, какие шестьдесят тысяч? Дай Бог и одну, – остановил его Муравьёв. – Иван Иванович, у вас чай простыл, хотите горячего?
Эти простые слова вернули всех к действительности.
– Так вот-с, господа, как: у вас всё готово, ну а у нас ещё нет, – проговорил Горбачевский[272] с недоверчивой усмешкой на своём широком, скуластом упрямом и умном лице. – Мы потихоньку да полегоньку. Объяснить солдатам выгоды переворота – дело трудное.
– Да разве вы им объясняете?