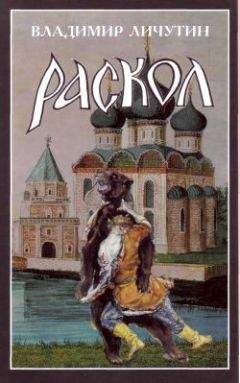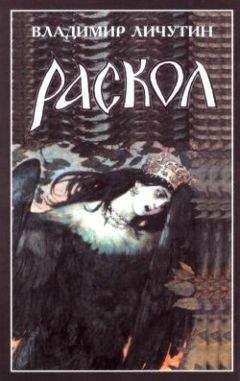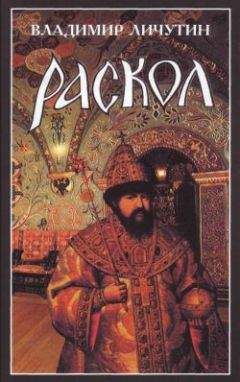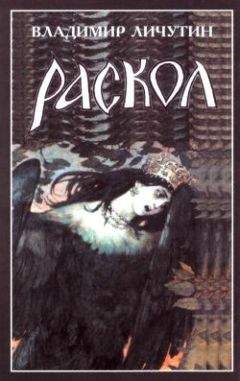Владимир Личутин - Раскол. Книга II. Крестный путь
…Чу! Шаги все ближе и ближе. Кто-то впотемни зашарил рукою по двери, наискивая скобу. Наверное, заблудился. С грохотом упали решета на мосту. Послышался испуганный вскрик: «Тьфу-тьфу, русяй… бачко… русяй, помози крестивому…» Аввакумова голова напухла, вся в жару, ровно бы распирает изнутри густым суслом, и в правое ухо перекинулся комариный писк. С ума можно сойти. От натока ли крови намерещился бред?
Да нет, дверь приоткрылась, в изобку втиснулся гость, запорошенный снегом; на малице и на голове целые сугробы; не отряхнулся на повети, лешак, а так и затянулся в жило. С грохотом сбросил с плеча, как лиственничный комель, мороженую рыбу нельму. Аввакум с трудом свесил голову. Не блазнит ли? Да нет, явился незваный гость, самоядский старшинка Пайга Тассый, да не с пустыми руками, с гостинцем. Встряхнулся у порога по-собачьи. Волос смоляной, тугим хохлом, лицо бронзовое, скуластое, слегка битое оспой, под губами реденькая бороденка, сам коротконог, но сколочен крепко. Карие глазки масляно блестят. Поди, штоф с утра опрокинул ясачный старшинка, но его на пол и оглоблей не сронить. Так и будет до вечера слоняться по гостям, сшибая чарку вина и повторяя: «Ой, пить хочу», а после упадет в сенях своей избы и проспит на полу до утра сном младенца.
– Крестивой ты иль поганый? – Аввакум едва ворочал языком.
– Крестивой, бачка. Сама ходит, в церковь ходит, поп целуит, – угодливо закивал старшинка и поспешно достал из-за ворота малицы оловянный крестик, приложил к губам.
– Блюди обычай православный, не отклоняйся, темный ты человек. Иль забыл, куда пришел? Вон образа-то…
Старшинка поклонился в красный угол, перевел взгляд на сосыланного. Лицо у того землисто-синее, как слепленное из глины, глаза сметанные, с синяками в обочьях. Принюхался самоед: в избе свежо, ветер морозный гуляет, печным дымом и не пахнет, знать, давно не топлено. Люб старшинке такой воздух, как в тундре. И старшинка трое дён не разжигал печи; душно ему в избе, и ночует Пайга Тассый на заулке в чуме. Как бы ладно сейчас посидеть с Божьим человеком за косушкою вина. А еще лучше молча побыть за чаркою; тяни огненную воду, строгай мороженую нельму – сладкая рыба, сама тает во рту; нож острый, блескучий, ловко снует возле губ, снимая тонкую рыбью стружку. Вино опалит гортань, кинется в черева, обоймет сердце радостью, а строганина, оттаяв в животе, сымет горечь и жжение, притушит утробное ворчание. А еще лучше – завалить бы быка да зачерпнуть в брюшине кружку горячей крови… Вон на передызье свернулись в снегу олешки возле нарт, спрятав от хивуса морды. Но бачка молчит: и прочь не гонит, и за стол не зовет. Тяжело дышит, знать, помирать собрался.
– Худая ты, бачка, сапсем худая, – сердобольно сказал старшинка. – Порато сапсем помирай. Инька надо, баба надо, под бок инька, хореем погоняй. Инька жаркий, болезнь сапсем вон.
Старшинка поймал свесившуюся с печи руку Аввакума, тяжелую, холодную, в черных узлах жил, участливо подул на кисть, прижал к потной щеке:
– Поздно тобя инька… Нюки собирай, пожитка собирай. Сапсем спешить надо…
– Куда ты меня тянешь, крестивой? – Голос у Аввакума дрогнул.
– Помирай нада… Где инька мой лежит. Повезу на олешках. Хороший был баба, сладко кутак погоняй. Шибко любил… Там помирай.
– Поди ты прочь-ту, нехристь! – возмутился Аввакум, кровь кинулась в голову. Но едва ворочал деревянным языком. – Сыч старый, я еще тебя переживу. – Хотел приподняться на локтях, но в затылке страшно так ударило чугунным пестом, в глазах пошли круги; простонал протопоп, свалился на спину, на лбу высыпала испарина. Скосил глаза – самоед виновато моргал разбежистыми карими глазенками, словно он-то и был виновен в болезни хозяина. Участливый человек, сердобольный, готов хворь бачки на себя перенять; сегодня Пайга Тассый много будет кланяться Нуме, просить у своего бога здоровья бачке; старшинка украдчиво просунул руку под малицу, погладил за пазухой деревянного божка, обещая сегодня же заколоть олешка и накормить хегу свежим мясом; далеко, долго ему брести к Нуме, устанет, пусть хорошенько попросит за бачку.
Аввакум вдруг смутился, что напрасно обидел самоеда. Повинился хрипло:
– Однако, и верно, что помирать собрался. Смерть не за горами, а за плечами… Поутру жив-здоров бродишь, годов своих не чуя, а ввечеру уж в гробу лежишь… Положи рыбу на стол да помяни меня, крестивой. Хороший ты человек. Прости, коли в чем согрешил пред тобою. Напрасно я на тебя рычал… Вон рундук под порогом, подыми крышку, достань походную баклагу да нацеди себе крюк зелена вина. Потчуйся, потчуйся, крестивой. – Аввакум бормотал, не открывая глаз. Его вновь вскружило и понесло куда-то знобким хивусом, как осенний палый, жухлый лист. – Да слышь, крестивой, веди братьев моих верных Лазаря и Епифания. Скажи: протопоп зовет на поминки.
Ясачный старшинка опустошил одну стопу, да и другую, крякнул, утер усы и бороду, но рыбу нельму строгать не стал, а вкрадчиво, на одних носках проскользнул по порогу, тихо прикрыл дверь.
«Что это я, прихильник? И взаболь помирать собрался?» – удивился протопоп, и душа его решительно восстала, взбунтовалась; Аввакум вздумал спуститься с печи, он даже с усильем перекатился на живот и вдруг забылся накоротко в тонком сне. И, что не приключалось с ним ранее, он увидел самого себя не смятенным крохотным рабичишкою, червем земляным, отягощенным грехами, но великаном, пред которым и сам Святогор стал бы не более медяного жука, что копошится в малиннике. Плоть Аввакума до того расширилась, что заняла собою всю поднебесную. А в это время слух протопопа был остр; отерпшие, натекшие чугунной тяжестью пальцы все пытались перебрать узелки лествицы, и Исусова молитва сама собою бессловесно струилась в голове, прозрачная и льдистая, как родник-студенец…
Тут на повети спроговорило, ходуном заходили половицы под валкими шагами, не чинясь, с оттягом всхлопала дверь.
– Кто тут у нас запомирал? – загрохотал бас распопы Лазаря. Он увидел жбанец на столе и – прямиком к нему, нацедил крюк, пригнул на лоб. – Право, святая вода, – бормотнул, – сразу жар оттягает.
– Ой, да на кого ты нас спокинул, отец богоданный, кукушица горемычная… Да как мы станем без тебя век коротать, – заголосила Домнушка, прибежавшая в избу следом за мужем; прижалась к руке Аввакума, обвисшей с печи, и давай поливать слезами.
– Будет реветь-то, корова! – И вдруг воспел Лазарь: – Радуй-ся, радуй-ся, сын ко Отцу потек… Ишь, сбежал, нас не спросяся. – Лазарь неуклюже полез на печь, даже не скинув оленьего совика, сам громоздкий, как платяной шаф. Неловко оперся о полатный брус, сопел жарко, никак не мог взгромоздиться наверх; экий потапыч, лесной хозяин, медведко, середка зимы вылезший из берлоги да и угодивший в человечье жило. От него несло сивухою, как из винной бочки. Лазарь перекатил Аввакума на спину, всмотрелся в лицо.
– Дай свету, отче, – велел чернцу.
Епифаний запалил лучину, подал Лазарю. Распопа поводил огнем, расчуяв подвох, раз и другой с оттягом хлестнул беспамятного по щекам.
– Будет блажить-то… Ошавило с голодухи. Эка костомаха, еще и нас переживет, – загорготал, как добрый жеребец, спрыгнул с приступка и – скорей к баклажке. – Собирались поминать, да горе радостью покрылось. Выпьем за здравие батьки Аввакума. Пусть век огнем горит, век шает да век в могилке не гниет… Епифаний, чего ревешь белугою? Утрися да прими на грудь. Единая да не повредит…
– Аввакумушко, очнися, – прошелестело над ухом влажно, певуче, и мягкая бабья ладонь легла на лоб, чтобы унять жар… Господи, да неуж Настасья Марковна? Откуда взялася, благоверная, не убоялась тундр злых и примчалась на зовы за тыщу поприщ? Мар-ков-на-а… мать детей моих… Было лихо открывать глаза; так сладко, оказывается, слушать плачи по себе. – Вожата?й верный, ключка подпиральная, не спокинь сирых в остатний час.
Через силу приподнял каменные веки, над лицом елозила колючая остистая борода Епифания, в мятом рыхлом лице, во многих бороздках его скопилась соленая влага. Инок упирался в лежанку, приподымал голову протопопа, подкладывал пухлую ладонь под затылок, и это прикосновение было тоже приятно Аввакуму. Но ерестливый, своевольный, сутырный человек постоянно дежурил в Аввакуме и при всяком вздорном случае восставал в нем.
– Поститва любит сердитых. Да и ты, батько, свой черед знай. Не утекай в царствие бессмертных, нас не спросяся, – увещевал Епифаний.
– Ага… Тебя забыл спросить, – фыркнул Аввакум, и жесткие усы его по-кошачьи вздернулись. – Вам бы только пить. Вы и живых пропивать готовы. Свою-то душу давно заложили дьяволу. – Аввакум спихнул Епифания, свесил голову с печи. – И ты, распопа, мать твою в рогозницу. И не боишься, ежли я тебе на чепь посажу?
– Ха-ха-ха! Бать-ко-о! Ожил? Вот и не мешай поминать раба Божия Аввакума. Сиживали, сердешный, и мы на чепи. И нас не медом потчевали. Да скажу тебе: лучше с чаркою на чепи, чем тверезым на печи… Заколел ты, жалконький, посинел, как наважка у иордани, – балагурил распопа, не позабывая меж тем приложиться к чаре. Один расселся на лавке, разложив локти по столешне, как волостной писарь иль подьячий из расправы, верша суд.