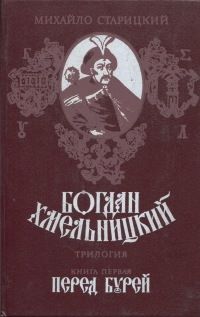Михаил Старицкий - Перед бурей
— Беса кривого мне в его войнах! — воскликнул пышный пан Заславский, отставляя свой келех. — Ему хочется войсковой славы, а я за нее своими боками плати? Не будет! Подати снова, мыта, поборы, татары, грабеж, разоренье. Не позвалям, да и только! Хочешь воевать — в пограничное войско иди!
В группах, окруживших стол, раздались одобрительные возгласы.
— После последнего повстанья мои украинные маентки до сих пор облогом лежат, хлопство разбежалось, рук нет, — продолжал он с отдышкой. — На милость короля не надейся! И каштелянство и староства он раздает своей новой шляхте, Оссолинским, Казановским, а старой самой за плугом, что ли, идти! — и тучный пан Заславский весь побагровел от благородного гнева и шумно отодвинулся от стола.
— Не в хлопах дело! — возразил раздражительно Иеремия. — Это наше быдло, и с ним мы расправимся сами... позорно для шляхты обращаться к королевской ласке в этом деле, а вот обуздать этого чужеземца следует. Об этом нужно подумать.
— Обуздать, обуздать! — загалдели кругом.
— Да, — продолжал Вишневецкий, — если мы — правящий класс в Речи Посполитой, так нам и должно принадлежать исключительное право входить в договоры с иностранными державами, собирать войска, объявлять войну, заключать мир, назначать подати и поборы, а этой коронованной иноземной кукле для почета достаточно и тысячу душ стражи да доходу с коронных имений.
— Ха-ха-ха! — закачался от смеху князь Заславский. — Коронованной кукле! Виват!
— Виват, ясноосвецоному князю! — подхватила и стоявшая шляхта, опорожняя келехи и наполняя их вновь старым медом.
— Отчего ты, Виктория, сегодня скучна? — обратилась к своей подруге между тем княгиня Гризельда. — Глаза твои так вяло, так безжизненно скользят по нашему пышному рыцарству?
— Не люблю я, признаться, — улыбнулась та, — этих разговоров про королей да про хлопов... тоска! А рыцарство твое совсем не интересно!
— Как?! — изумилась Гризельда. — А присмотрись к пану Раймунду да к пану Яну.
— Эк, невидаль! — сделала презрительную гримасу подруга.
— Ты уж очень разборчива, — пожала плечами Гризельда, — никто тебе у нас не нравится... Или заполонил твое сердце малжонок, — бросила она насмешливый взгляд, — или...
— Или что? — вспыхнула полымем пани.
— Или оно всецело принадлежит кому-нибудь другому.
— Гризельда! — вскрикнула, как бы прося пощады, Виктория. — На бога!
— Или — продолжала лукаво Гризельда, — оно совсем не способно к любви.
— Последнее самое верное, — улыбнулась, подавивши вздох, подруга, и темный взор ее ушел сам в себя.
А за столом между шляхтой опять поднялся оживленный разговор. Вопрос зашел о религии, и Гризельда вся обратилась в слух, а пани Виктория, воспользовавшись минутой, встала от стола и подошла к паненкам.
— Да и здесь его королевская мосць оказал нам услугу. — выкрикивал неприятным и резким голосом князь Вишневецкий.
— Кто как не он хлопотал о греческой схизме, кто отдал им епархии? Мало того, хотел посадить схизматского митрополита с нами в сенат.
— О tempora, о mores![123] — промолвил иезуит. — Схизма на верной земле, посвященной папскому престолу и пресвятой деве!
— Король хотел примирить вероисповедания во имя мира и спокойствия в панстве, — вставил негромко Остророг.
— Только тот мир и прочен, который предписан мечом, — произнес гордо Иеремия, бросая в сторону Остророга полный презрения взгляд.
— Ха-ха-ха, мир с хлопами! — разразился диким смехом Чарнецкий. — Так можно рассмешить и мертвого: мирить меня с тем, кто сам с головой и с ногами в моих руках? Да после этого мне могут предложить помириться и с моим надворным псом!
— Однако, — поднял Остророг свои голубые глаза, — пан забывает...
Но слова его перебил резкий и надменный голос Иеремии.
— Но не бывать тому, панове! — крикнул он запальчиво. — Я не допущу этого, и если панство не пойдет за мной, сам сорву сейм!
— Да и к чему вмешательство короля в наши религиозные дела? — просопел багровый Заславский. — Мы сами над собою паны, а в помощь еще нам могут стать святые отцы.
— И они бы давно сделали свое дело, если бы его милость король не был так ослеплен склонностью к схизме, — вздохнул смиренно патер. — При покойном короле Жигмонде, пока не вмешивалась светская власть в дела церкви, наш орден не подвергался гонению, и заблудшие в схизме овцы мирно возвращались в лоно святой церкви, а ныне разогнаны слуги святейшего отца, в небрежении дело веры, но... — иезуит поднял глаза к потолку и произнес совсем тихо и смиренно: — Пока живу, надеюсь, а надежда — в бозе!
При последних словах патера на бледном лице княгини вспыхнул горячечный румянец, черные глаза загорелись затаенным огнем, и, обращаясь к мужу, она заметила дрожащим от волнения голосом:
— Неужели князь допустит и дальше такое насилие над верными служителями веры наших отцов! Неужели позволит схизме множиться и распространяться на нашей земле?
— О пресвятая дева! — воскликнул с пафосом иезуит. — Ты избираешь себе достойных служительниц на этой грешной земле.
Иеремия взглянул на княгиню... и вдруг все лицо его, надменное, кичливое и холодное, преобразилось от несвойственного ему выражения нежности и любви, оно сделалось даже почти красивым.
— Нет, княгиня, клянусь, — воскликнул он гордо и уверенно, — покуда я жив, в моих, по крайней мере, владениях измене и схизме не удастся свить своего гнезда!.. Размечу, с лица земли сотру все их селения, но водворю тишину, и спокойствие, и истинную веру вот этим мечом!..
— И прославится имя твое от века до века, и народы преклонятся перед ним, — заключил торжественно патер.
Князь Остророг хотел было что-то сказать, но голос его покрыли громкие и дикие крики окружающего панства: «Vivat! Vivat! Vivat!»
— Ба! Кого я вижу, пан ротмистр? — воскликнул громко молодой уланский поручик, сталкиваясь в дверях с седым офицером в форме коронных гусар.
— Он самый, — ответил тот с радостною улыбкой, осветившею сразу его угрюмое на вид лицо.
— Откуда? Как? Каким образом здесь?
Встретившиеся знакомцы отошли в амбразуру окна.
— Я-то с письмом от великого польского гетмана, а ты, пан-товарищ, каким образом здесь?
— А разве пан не слыхал, что я перешел в войска князя Иеремии?.. Надоело стоять там, на кресах (границах). Здесь, по крайней мере, жизнь, пышность, веселье, да и опаски нет никакой, а там что за радость? Каждую минуту подставляй свою голову... — и он добавил, взявши пана ротмистра за руку: — Ну, а как пану нравится замок?
— Крепость неприступна. Гарнизон на местах, порядок везде беспримерный... Больше нечего и желать.
— Нет, я не о том! — усмехнулся снова пан-товарищ. — Как пану нравится сам замок, приемы, двор? Ведь по-крулевски? В Варшаве не встретишь такой красоты.
— Об этом не знаю, в королевском дворце не бывал, а что шуму много, то правда.
— Ха-ха, — перебил его пан-товарищ, — впрочем, пан ротмистр самой красы еще не видал. Я могу показать ему настоящий цветник; но если пан к женщинам относится так же сурово, то, быть может, не стоит и огорчать наших дам.
— О нет! — усмехнулся добродушно пан ротмистр под своими гигантскими усами и подмигнул молодцевато бровью, — панны никогда не могли пожаловаться на мое равнодушие.
— В таком случае прошу пана следовать за мной, — сказал пан-товарищ, пробираясь осторожно сквозь снующее беспрестанно панство к концу залы, где в полукруглом выступе, образовывавшем род гостиной с гигантскими окнами, протянувшимися почти от самого потолка до самого пола, разместились на шелковых табуретах знатные панны, проживавшие в замке князя Иеремии и составлявшие нечто вроде свиты княгини Гризельды; между ними сидела теперь и пани Виктория. Пушистый турецкий ковер покрывал весь пол гостиной. Свечи в высоких консолях горели по углам, а в открытые окна вливался летний воздух, такой душистый, теплый да неподвижный, что даже не колебал ни одного пламени свечи. Вокруг вельможных паненок суетились молодые магнаты, офицеры из княжьих, коронных и других хоругвей. Слышался сдержанный говор и веселый смех.
— Ну, а что, как пану ротмистру это понравится? — остановился пан-товарищ, любуясь издали блестящим видом залитых золотом и каменьями красавиц; но пан ротмистр почему-то сурово молчал, не сочувствуя, очевидно, похвалам, расточаемым его юным собеседником.
— А вот эта пани, — видит пан ротмистр? — вон та, с рыжеватыми волосами, — указал он на одну из дам, сидевшую у раскрытого окна, возле которой увивалась целая толпа. — Это пани Виктория, красавица, малжонка старого-престарого деда Корецкого, ищущая утешителя... По ней сходит с ума весь замок, даже, говорят, вельможный пан Остророг забывает свою латынь, глядя на нее.