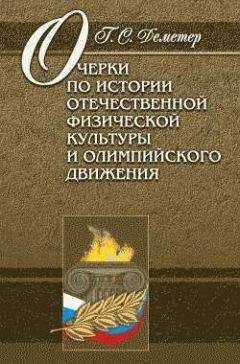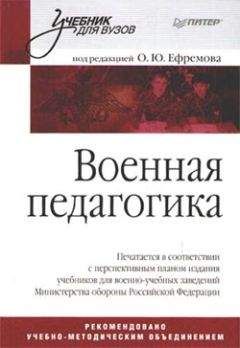Георгий Ишевский - Честь
— Передай Дмитрию Васильевичу, что ты больше в алтаре прислуживать не будешь… Ты знаешь почему… Можешь итти…
Краска залила лицо Жоржика… В мозгу промелькнуло обещание — «Я тебя не выдам». С поникшей головой Жоржик, молча, покинул пономарку, еще больше убедив отца Михаила в своей виновности. Миша с нетерпением ждал возвращения друга, он уже полностью осознал свой поступок и мучился неизвестностью его последствий. Сообщение Жоржика ошеломило его. Он рванулся к батюшке, рванулся к правде, которую он должен сказать ему, но Жоржик остановил его. Друзья решили ждать великого поста, исповеди, которые, однако, не открыли истинного виновника выпитого кагора, так как по болезни батюшки кадет исповедывал приглашенный корпусом протоиерей Фивейский. История с кагором ушла в вечность, скрепив крепкой дружбой отношения Миши и Жоржика…
. . . . . . . . . . . .
…Восточная оконечность русской земли… Владивосток… Последний оплот проданного союзниками белого движения… Вечерело… Брагин с опустошенной душой медленно подымался в гору по Алеутской улице в сторону Светланки. В мозгу, навязчиво, вставал один и тот же вопрос — «что же дальше?» Вдали, слева, мелькнул силуэт маленькой, белой церкви, и в лучах заходящего солнца ярко горел маленький крест. Скоро послышался тоненький звон колокола, как бы повторявшего одно и то же слово: — «зайди, зайди, зайди».
«Где слышал я этот звон?.. Такой знакомый, близкий», — мелькнуло в мыслях и, напрягая память, Брагин инстинктивно прибавил шаг в сторону звона.
«Ну да… конечно… в Симбирске, в маленькой церкви, в которую мы ходили с Машей… с Машей…»
В мозгу пронеслась мысль о невозвратном детстве, перед глазами мелькали лица короткого счастливого прошлого, и совершенно машинально Брагин тихо начал говорить стихи «К. Р.», которые он когда-то читал в корпусе на концерте.
«Садилося солнце… зарею вечерней
Румяный зардел небосклон.
Ударили в церкви к вечерне,
И тихий послышался звон.
Лились замирая, вдали эти звуки,
Как зов милосердный Того,
Кто дал человеку душевные муки,
Кто в горе утешит его.»
…а колокол настойчиво повторял: — «зайди… зайди».
Брагин свернул в церковную ограду, прошел небольшой чистый двор, и вступил в прохладный полумрак низенькой церкви..
Спокойные лики святых, подсвеченные тусклым светом разноцветных лампад, ласково смотрели на ряд сгорбленных старушек, старательно отвешивающих поклоны чистой и сильной веры.
На левом клироссе псаломщик тенорком что-то торопливо и невнятно читал. Брагин встал у стены, опустил голову, закрыл глаза. Вспомнились слова отца Михаила — «Дети, молитесь с закрытыми глазами». Началась ектенья, и до слуха Брагина донеслись, так же, как звуки колокола, знакомые нотки голоса, которые он где-то и когда-то слышал.
Умученных и убиенных за святую православную веру и отечество наше.
Брагин поднял голову, открыл глаза. На амвоне стоял корпусной дьякон о. Алексей Ягодинский.
Кончилась вечерня… Старушки, отвесив последние земные поклоны, нехотя, побрели к выходу, шопотом разговаривая друг с другом. Псаломщик тушил фитильки лампад, истово отбивая поклоны перед каждой иконой. Масляный чад наполнил маленькую церковь. Прошел старичек священник и, наконец, из алтаря показалась сгорбленная фигура дьякона. «Почему сгорбленный? Почему седой?» — подумал Брагин, с сомнением следя за приближающейся фигурой.
— Отец дьякон, — радостно воскликнул Брагин.
— Постой, постой… Знаю как тебя зовут… подожди, дай вспомнить.
Он сморщил лоб, тер его костлявой рукой и обрадовавшись воскликнул:
— Жоржик?
— Брагин, Симбирского корпуса.
Отец Алексей обнял Брагина, схватил его за руку и вывел на церковный двор.
— Пойдем ко мне… Я живу здесь, — радостно говорил о. Алексей, указывая рукой на крошечный домик. Они вошли в маленькую кухоньку, дверь из которой вела в скромную комнату, где стояли: небольшой стол, стул и походная кровать. В переднем углу черный аналой с иконой Николая Чудотворца и Евангелие.
— Садись… садись прямо на кровать… Сейчас вскипячу чай, — радостно-суетливо говорил помолодевший о. Алексей.
Он торопливо шмыгнул в кухню, разжег примус и скоро вернулся с грудой разного размера свертков. На столе появились: копченая рыба, сыр, масло, хлеб, варенье… Отец дьякон налил два стакана чаю и опустился на стул против Брагина. Вдруг, как бы вспомнив что-то, он вскочил и, направляясь в кухню, на ходу бросил:
— Подожди, не пей, я принесу кагор…
Через минуту он вернулся и, наливая в стакан Брагина красное вино, с шаловливой улыбкой сказал: «А помнишь кагор?.. Помнишь?»
Тусклые глаза загорелись огоньком далеких воспоминаний. Изборожденное глубокими морщинами лицо лучилось счастьем. Брагин молчал. Перед глазами мелькали строчки последнего письма Миши Рудановского, в котором он почему-то, по прошествии многих лет, вдруг вспомнил детскую шалость с кагором, извинялся перед Брагиным и убедительно просил его, если он будет в Симбирске, повидать отца Михаила и сказать ему, что кагор выпил он. Письмо оставило тяжелое впечатление в душе Брагина, словно Миша прощался с ним и передавал ему свою последнюю волю… В боях за озеро Нарочь Миша Рудановский был убит.
— Да ты что затуманился? Я пошутил… Ну был грех, но ведь отец Михаил сразу же простил тебя… только уволил из алтаря, — виновато говорил о. Алексей, через стол гладя руку Брагина.
— Отец Алексей, кагор выпил Миша Рудановский, — тихо произнес Брагин.
— Как? Почему же ты сразу не сказал? — удивленно воскликнул пораженный о. Алексей.
— Я дал слово Мише, что не выдам его, и сейчас лишь исполняю волю убитого…
— Миша убит? — глухо переспросил о. Алексей.
Низко опустилась седая голова… «Еще один»… «Вечная память».
Было за полночь, когда Брагин покидал о. Алексея в мыслях навсегда, унося последнюю волну воспоминаний о корпусе, нескончаемую вереницу умученных, убиенных, и просто ушедших из жизни лиц, о которых с грустью поведал о. Алексей. Брагин поведал о. Алексею все свои мытарства и, когда на прощание он обнял его, Брагин почувствовал, как его костлявая рука зажимает в его руку пачку каких то бумажек.
— Зачем отец Алексей? Не надо… Я еще молодой… Все невзгоды уйдут… Я пробью себе дорогу…
— Это не тебе… твоей жене… Мы Симбирцы, мы должны помогать друг другу: — закончил отец Алексей и уже в дверях добавил:
— А за кагор — прости.
ПОЛИВНА
Тихо спустилася ночь над Поливной,
Лагерь кадетский окутался мглой,
Громко доносится трель соловьиная
Светится где-то огонь за рекой.
Тишь и безмолвие…
Лист не шевелится,
Тени сползают с горы,
Только на западе слабо алеется
Отблеск вечерней зари.
Лентой широкой внизу расстилается
Матушка Волга река,
Легким туманом она одевается
Быстрые воды неся.
Ночь ароматная, ночь безмятежная,
Долго-ли мне любоваться тобой?
Может быть скоро судьба неизбежная
Даст насладиться мне ночью родной.
Вспомню тогда я и склоны лесистые,
Вспомню и лагерь кадет,
И издалека вам, рощи тенистые
Сердцем пошлю свой привет.
Поливна — было дачное место в 7-и верстах северу от Симбирска, расположенное в смешенном лесу на нагорном берегу Волги. Река, окаймленная на нагорном берегу лесом Поливны и на противоположном заливными лугами и песчаными отмелями, несла свои воды далеко внизу. Дачи состоятельных горожан были непроизвольно разбросаны в густой зелени леса и словно по уговору были выкрашены в белый цвет, издали напоминая дружную семью белых грибов. Тут же, несколько на отлете, приютился лагерь корпуса. Лагерь состоял из трех чистеньких бараков для кадет и нескольких маленьких дач для воспитателей и служб. Летние каникулы корпуса длились с 15-го мая по 15-ое августа. Подавляющая масса кадет разъезжалась по всей России к своим родителям и родственникам. Немногочисленными обитателями лагеря являлись или круглые сироты, или те из кадет, родители которых по тем или иным причинам не могли предоставить домашнего отдыха своим возлюбленным чадам. Лето 1907 года 13-и летнему Жоржику и его младшему брату Евгению по причине печальных обстоятельств пришлось провести в лагере. Старший брат Брагиных, Митя, вице-унтер-офицер выпускного класса, зимой, оступившись, упал с ледяной горы. Падение оказалось роковым. Через пять месяцев, несмотря на принятые меры, у Мити начался туберкулез реберных костей. В апреле мама уехала с ним в Алупку, а в августе тихо угас цветущий юноша, необыкновенно трогательный сын и брат, а для корпуса безупречный — «воспитанник чести». Весь класс был удручен несуразной, глупой потерей Мити, но особенно переживал утрату первый друг, одноротник Сережа, барон Цеге фон Мантэйфель. Он, как будто сам, взглянул смерти в глаза и понял, что для каждого есть жизнь и есть смерть.
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](/uploads/posts/books/48021/48021.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](/uploads/posts/books/50071/50071.jpg)