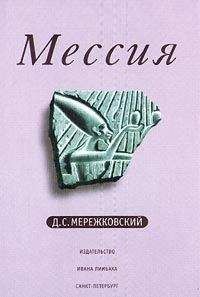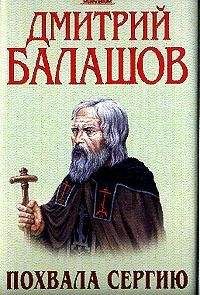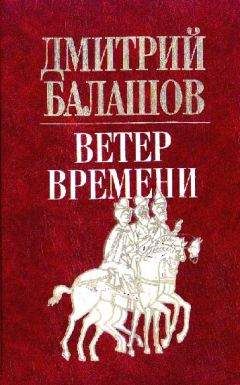Дмитрий Мережковский - Рождение богов. Тутанкамон на Крите
— Простить не можешь? — спросила мать Акакалла.
— Не могу, — ответила Дио и, прижавшись лицом к голой, темной, сучьей груди старухи, заплакала детски-беспомощно.
— Разве можно простить? — прошептала сквозь слезы.
— Можно, — ответила жрица. — В уме — нельзя, а в безумии — можно. Да ты что спрашиваешь, будто не знаешь?
— Не знаю.
— Порадей — узнаешь!
— Радела, а вот не узнала…
— Не так, видно, радела, как надо.
— А как же надо?
— Дура! Дура! Дура! — закричала на нее старуха и так же, как давеча на Туту, затопала ногами в ярости. Сорвала колпак с головы; седые космы по лицу рассыпались; и судорожно, как будто задыхаясь, начала она срывать и отшвыривать змей.
— Ох, да ведь и я же дура старая, не лучше твоего! Нечестивица, безбожница окаянная, восемьдесят лет на свете прожила, а никому добра не сделала! Учила тебя, думала: вот помру — будет наследница, великая жрица. А ты не великая жрица, а мокрая курица, тьфу!
Дио слушала ее с жадностью: грубые слова утоляли боль нежнее ласк.
— А как же надо радеть? Скажи, как, — повторила с мольбою.
— А вот как, — заговорила старуха уже спокойно, как врач с больным. — Ума исступи — умудрись; себя потеряй — Его найди; из себя выйди — войди в Него; ослепни — увидь.
— А ты Его видела? — прошептала Дио.
— Одним глазком, одним глазком — в глазок попала искорка — оттого и окривела!
Вдруг все тучное тело ее заколыхалось, как студень, от тихого смеха.
— Глаз-то у человека, думаешь, сколько? Два? Нет, четыре. Два во лбу, а два в затылке. Эти ослепнут, а те увидят. Теми, теми, теми смотри, а не этими! Тогда и увидишь — узнаешь — простишь!
Зашевелилась грузно. Дио помогла ей встать, подала костыли и, припадая на больные ноги, побрела старуха медленно не к выходу, как думала Дио, а к нижней пещере, Святому Святых. Спуск в нее огражден был каменною стеною с бронзовою дверцею. Мать Акакалла подошла к ней, открыла ее и сказала:
— Войди!
Но Дио не смела войти: знала, что под страхом смерти никто, кроме великой жрицы, не должен входить в эту дверь.
Старуха толкнула ее грубо в спину. Она вошла, но наклонила голову, опустила глаза, чтобы не видеть Святого Святых; видела только белый лес сталактитов и у самых ног своих высеченные в скале ступени. Старуха опять толкнула ее. Она сошла на первую ступень; потом — на вторую, третью. Ступени были круты и скользки. Ноги у нее дрожали так, что она боялась упасть. Остановилась.
— Подыми голову, — сказала старуха. — Да подыми же, подыми, дура, девка негодная, чтоб тебя! — закричала и ударила ее по голове костылем.
Дио подняла голову и зажмурила глаза.
— Смотри, смотри! Видишь? — спросила мать Акакалла, держа над ней факел так, чтобы осветить глубину пещеры. Дио ничего не ответила, только зажмурила глаза еще крепче. А старуха заговорила над ней таким изменившимся голосом, что Дио показалось, что это не она говорит, а кто-то другой, из нее.
— Помни, помни, помни, Дио, дочь Аридоэля, великая жрица Матери: не человека терзает, а в человеке терзается Бог; не человека убивает, а в человеке умирает Бог. Слава Отцу, Сыну и Матери!
«Увидеть — узнать — умереть? Пусть, только бы знать!» — подумала Дио и открыла глаза — увидела.
Слезы сталактитов капали, красные от света факелов, точно кровавые, и на дне пещеры чернела вода, как лужа черной крови, а над ней висел, на белой стене сталактитов, изваянный из черного мрамора четырехконечный Крест.
II
Тутанкамон с любопытством рассматривал маленькую, из горного хрусталя, чечевицу, резную печать, только что купленную для него художником Юти. Поднял ее на свет, чтобы лучше рассмотреть тончайший рисунок.
— Прелесть, прелесть! — хотел сказать, но не сказал: рисунок был слишком странен.
На цветущем, шафранном лугу, тонкие, гибкие, как водоросли, девушки, в критских юбках-колоколах, многосборчатых, казавшихся на рисунке шершаво-колючими, как сухие репейники, с осиными станами и голыми острыми сосцами, плясали исступленную пляску, терзавшую тела их, как судорога смертной муки, упоения смертного.
— Отчего они без голов? — удивился Тута, вглядываясь в реявшие над ними россыпи точечек, звездочек вместо голов.
— А кто их знает, здешних мастеров! Сумасшедшие! — проворчал Юти и поморщился.
Знать не хотел, но чувствовал в безумии рисунка безумие пляски — головокружительный вихрь движения, скрывающий то, что движется: увековечить мгновенное, остановить летящее, — вот чего хотят эти беззаконники.
— Ну, а руки зачем подняли точно зовут кого-то? — опять спросил Тута.
— Мертвого бога зовут, колдуют, — ответил художник все так же нехотя.
— А что, и вправду здешние девушки колдуют так?
— Вправду. Скоро на Горе заколдуют.
— И бог им явится?
— Кто-то является, а как знать — кто? Мерзости такие делают, что и сказать нельзя.
— Любопытно, любопытно! Вот бы посмотреть!
Вошел Таму.
— А, железный купец! Еще не уехал?
— Собираюсь.
— Уж который раз! Какая тебя тут веревочка держит, а? Не влюблен ли?
— Влюблен. Ты все знаешь.
— Знаю и в кого. Сразу в двух. Обе девочки похожи на мальчиков: ты ведь любишь таких. Итана — блудница, а Дио — святая, ну да ведь это небольшая разница!
— Небольшая: как для голодного — мягкий хлеб или черствый, — усмехнулся Таму.
— А что ты такой желтый? — спросил Тута, вглядевшись в лицо его. — Рана зажила?
— Зажила.
— Ну, так это от печени.
— Должно быть… А это у тебя что?
— Видишь, камешек. Волшебный — в нем сила большая для вызывания мертвых.
Таму взял чечевицу, тоже поднял ее на свет и взглянул на рисунок.
— Прелюбопытно, а? Так на Горе колдуют здешние жрицы. Вот бы, говорю, посмотреть, — сказал Тута.
— А что ж, поедем на Гору, посмотрим, хочешь?
— Разве можно?
— Можно, если не боишься.
— Чего?
— Поймают — убьют: женщины не любят, чтобы мужчины видели, что они делают втайне.
— Да что ж они такое делают?
— Никто не знает, а, должно быть, не очень хорошее, если не хотят, чтобы люди знали.
— И наши будут там? — спросил Тута, все больше любопытствуя.
— Кто наши?
— Дио, Эойя.
— Будут.
— Да ведь они святые?
— Что из того? Ты сам говоришь, что между святой и блудницей небольшая разница, — рассмеялся Таму.
Начал говорить шутя, но не шутя кончил. «Любопытно!» — подумал и он, как Тута, и вдруг жадное желание пронзило сердце его, как укус скорпиона: еще раз поглядеть за «мальчиком и девочкой» — узнать, есть ли разница между святой и блудницей. Все чаще казалось ему единственным спасением — опозорить любовь свою, убить ее бесстыдством. «Одно из двух — убить любовь или себя. Да нет, проживу и подохну, как пес, а себя не убью!» — упивался он горчайшим из всех человеческих чувств — презрением к себе.
На следующий день Таму привел к Туте корабельного подрядчика Килика, плюгавого человечка с косыми, бегающими глазками. Тута узнал впоследствии, что Килик — негодяй отъявленный; но уже и тогда, глядя на него, вспоминал ходившие по городу слухи, будто бы железный купец якшается со всякою сволочью.
Килик взялся за хороший подарок устроить поездку их на Диктейскую гору. Поставлял на корабельные верфи пеньку, деготь, шерсть, скупая их по мелочам у пастухов и поселян на Горе. Один из них, пастух Гингр, обещал проводить их на место радений и спрятать так, чтобы они могли увидеть все.
— Будьте покойны, господа мои, не пожалеете, большое можете получить удовольствие! — повторял Килик.
— Какое же удовольствие? Говори толком, а то, может быть, и ездить не стоит, — допытывался Таму.
— Как же не стоит, помилуйте! Увидите, чего никто не видел, — все тайны женские…
Толком, однако, ничего не сказал, только подмигивал, ежился, усмехался таинственно и повторял:
— Большое можете получить удовольствие!
III
Дня через три поехали.
Килик проводил их до города Ликта, у подножия Горы; дальше ехать отказался наотрез и вдруг, получив подарок, куда-то пропал, как сквозь землю провалился, должно быть, чего-то испугался.
Туте это не понравилось. Впрочем, с дюжиной нубийцев-телохранителей, не страшным казалось ему и целое войско фиад. Когда перед самым отъездом Таммузадад спросил его: «Не боишься?» — он ответил ему с достоинством: «Я не трус, чтобы бояться женщин!»
В Ликте ожидал их старый козий пастух Гингр. Переночевав в городе, выехали рано поутру, чтобы миновать засветло трудный Бычий перевал.
Главная дорога шла на Инат, Пиранфу, Гортину и далее, на южную столицу Крита — Фэст. Но скоро свернули на глухие тропы, а потом и с них на голый камень диких круч.
Тута ехал сначала в носилках, но скоро должен был пересесть на мула. Сделал это с неудовольствием: египтяне верхом не ездили, считая непристойным сидеть раскорячившись на спине животного.