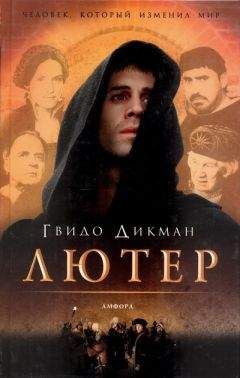Валерий Шумилов - Живой меч или Этюд о Счастье Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста
– Да, и ты назовешь в нем имена заговорщиков. Но не в этот день – на следующий.
– Но ведь это – битва вслепую. Мой доклад совсем о другом. А если мне необходимо выступить послезавтра, то у меня уже почти не остается времени на подготовку новой речи. Максимилиан, ты должен показать мне текст. Как мы всегда делали…
Робеспьер задумчиво посмотрел на Сен-Жюста и с каким-то мрачно-загадочным выражением лица покачал головой. Антуан чувствовал, как к нему подступает отчаяние, и он опять почти выкрикнул:
– Мы не можем, мы ни за что не можем пойти на открытое противостояние со всем Национальным собранием! Максимилиан! Максимилиан, разреши мне действовать! Скажи свое Слово - только не в Конвенте – в Коммуне, в секциях, на улице!
– Слово? – Робеспьер на мгновение, казалось, заколебался. – Ну и что бы ты сделал на моем месте?
– Ударил первым!
– Как?
– Немедленно, сейчас или завтра ночью, но лучше сегодня, надо послать отряды Анрио арестовать на дому членов обоих правительственных Комитетов. Если кто-то из них этой ночью будет во Дворце Равенства – арестовать их прямо на заседании. Приказ об аресте издать на бланке Комитета общественного спасения за твоей подписью
с приложением приказа Коммуны. Одновременно произвести аресты всех депутатов-заговорщиков в их же постелях, и в первую очередь – Фуше, Тальена, Барраса, Фрерона, Лекуантра, Лежандра, Мерлена из Тионвиля, обоих Бурдонов! Многие не ночуют дома – ждут развязки! – что ж! – они не знают, что некоторые адреса все равно нам известны через наших агентов. И еще: перед утренним заседанием окружить Конвент батальонами парижских канониров и арестовывать при входе всех тех депутатов, кого не удастся схватить ночью. Арестовать Фукье-Тенвиля… – заметив, что Робеспьер пытается слабо возразить, Сен-Жюст остановил его движением руки: – Послушай же! Большинство депутатов против нас, но Коммуна полностью у нас в руках. Так же как и якобинцы. И вся парижская администрация… Но вот народ… Он полностью дезориентирован. Мы оттолкнули от себя секции, и неизвестно, на чьей стороне выступит Национальная гвардия, если дойдет до конфликта. Ведь Конвент в глазах большинства все еще высшая правительственная инстанция. Он, а не парижские магистратуры… Во что бы то ни стало надо избежать открытого противостояния, устранив заранее главарей заговора. Что бы там ни было, народ по привычке поддержит Коммуну, Конвент – нас, и Республика будет спасена!
– Ты хочешь гражданской войны?
– Она и не прекращалась!
– А армия?
– Сто жирондистов были изгнаны из Конвента, когда Коммуна вмешалась в наши дела год назад, ты же помнишь! И где теперь все эти восставшие департаменты, поддержавшие мятежных депутатов? Армия не пойдет на Париж! Ни за нас, ни против нас… К тому же у нас есть и верные генералы: Пишегрю, Журдан, Бонапарт. Так что…
Робеспьер покачал головой:
– Нет… Нет! Мы не исчерпали еще возможности действовать конституционным путем. Если они выступят первыми, тогда, конечно, мы вынуждены будем ответить им. Но только в стенах Конвента. Мое Слово неизменно брало верх над заговорщиками.
– Веришь ли ты сам в это, Максимилиан?
Робеспьер молчал.
– И о каких конституционных путях ты говоришь? Мы же сами с тобой отменили конституцию Республики, а сложившаяся силою вещей «революционная конституция» работает на тех, кто стоит у кормила. Сейчас большинство «стоящих у кормила» – наши враги. Да, депутаты – представители народа. Мы не можем разогнать Собрание, не рискуя войти в конфликт со всем сувереном. Но мы можем превратить Конвент в послушное орудие, а потом и переизбрать его… как того хотим мы… Ты же видишь, больше никого не осталось, кроме нас с тобой, кто способен довести революцию до конца.
Робеспьер молчал.
– Максимилиан?
Робеспьер молчал.
«Он просто боится, – устало подумал Сен-Жюст, не дождавшись ответа. – Боится из фактического лидера правительства превратиться в мятежника, поднявшегося против законной власти. Или нет, дело не только в этом. Робеспьер никогда не выступал открыто даже против правительства Людовика: ни во время похода женщин на Версаль, ни на Марсовом поле, ни 10 августа. Ни даже против жирондистов. Он всегда шел с кем-то… или за кем-то… Но теперь нет ни Мирабо, ни Лафайета, ни Марата, ни Демулена, ни Дантона, ни Эбера. Он остался один. И это хорошо. Потому что с ним есть я. Но что толку? Робеспьер не пойдет с пистолетом впереди вооруженных колонн. И можно ли его за это осуждать – на это способны далеко не все. А за мной… за мной без Робеспьера Париж не пойдет… Сказать ему о том, что теперь он мешает мне, что он губит не только себя и меня, но и Республику? Нет…»
(«Бесспорно, что тираны погибают от слабости законов, которые они сами лишили силы», – он вдруг вспомнил свои собственные слова из трактата «Дух Революции…», и ему показалось, что в его глазах потемнело.)
– Ну что же, попробуем действовать по твоему плану, Максимилиан, – вместо этого сказал он. – Попробуем в Конвенте назвать имена заговорщиков и потребовать чистки Комитетов.
– Да, у нас нет другого выбора, – во взгляде Робеспьера мелькнуло наконец торжество, говорившее: вот видишь, ты и согласился со мной, и ни к чему было начинать этот бессмысленный спор, – все равно все будет так, как решил я…
Сен-Жюст встал, взял со стола шляпу и пошел к двери. Но перед тем как выйти, он вдруг остановился, обернулся и еще раз посмотрел на Робеспьера. Тот сидел все такой же бледный и неподвижный, не глядя в его сторону. На мгновение Сен-Жюст задержал взгляд на его лице. Потом резко выдохнул: «Прощай!» – и вышел с твердым убеждением, что больше сюда не придет. Говорить с Максимилианом Робеспьером было уже невозможно. Они снова найдут общий язык, если одержат победу. Если же нет… Тогда… тогда их примирит поражение. Потому что они сами, написав на фронтоне Французской Республики святые слова «Свобода, Равенство, Братство», сделали их все вместе равнозначными всего лишь одному понятию, стоящему в надписи четвертым словом, и которое подменяло их, если три предшествующих вдруг почему-то становились несостоятельными.
Но здесь он перестал думать о Смерти и бездумно отдался в объятия ночной улицы. Тьма скоро поглотила его.
…Оставшись один, Робеспьер некоторое время сидел молча, совершенно бездумно глядя на стоявший на столе прямо перед ним кувшин с цветком розы. Потом жесткое выражение его лица постепенно приобрело умиротворенный характер. Он улыбнулся, вспомнив, как только что убеждал Антуана в своей вере в Конвент, надел очки и достал из письменного стола листок бумаги, в котором анонимный автор, назвавший себя депутатом Национального конвента, угрожающе предостерегал нового «Цезаря»: «Но сумеешь ли ты предусмотреть, сумеешь ли ты избегнуть удара моей руки или двадцати двух других таких же, как я, решительных Брутов и Сцевол?» Робеспьер с иронией прочитал эти строки, потом вызвал ньюфаундленда из-под кровати, положил ему на голову мягкую ладонь, ласково потрепал друга по затылку, а затем, глядя в добрые собачьи глаза своими прослезившимися, прочувственно произнес стихи, сочиненные им когда-то давным-давно в юности, и которые теперь, как ему казалось, как никогда отвечали его внутреннему желанию, желанию, которое должно было вскоре осуществиться:
Кто праведен – идет в последний путь страданья,
Однако не страшусь, что смертный час грядет.
Пусть так – но как стерпеть, что торжествует злоба,
Что нестерпимее, чем быть у края гроба
Столь ненавидимым – и сгинуть за народ
[17].
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Я заслуживаю смерти. Все мы поделом терпим поношения, которыми в нашем лице осыпают Республику и от которых нам следовало оградить ее. Мы проявили слабость. Мы грешили снисходительностью. Мы предали Республику. Мы заслужили свой жребий. Робеспьер, безупречный, праведный Робеспьер, и тот повинен в кротости и в снисходительности; он искупил эти ошибки своим мученичеством. Подобно ему, я тоже предал Республику; она погибает; справедливость требует, чтобы я умер вместе с ней. Я щадил кровь других; пускай же прольется моя собственная кровь! Пусть я погибну! Я это заслужил…
А. Франс. Боги жаждут– Граждане, пусть другие рисуют вам приятные для вас картины, я же хочу высказать вам полезные истины. Я буду перед вами защищать нашу оскорбленную власть и попранную свободу. Я также буду защищать самого себя, вы не будете удивляться этому, вы совершенно не походите на тиранов, с которыми вы боретесь…
Первые же слова оратора озадачивают Сен-Жюста, и он в недоумении переводит взгляд, который как обычно из демонстрации был направлен у него поверх депутатских скамеек чуть выше верхней балюстрады для зрителей, вниз на трибуну, где застыла небольшая опрятная фигурка в голубом фраке, золотых панталонах и белом напудренном парике.