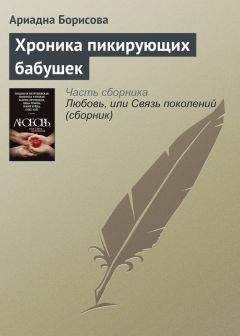Глеб Алексеев - Подземная Москва
– Ну, милый человек!-воскликнул миллиардер.-А теперь беги за автомобилем.
– Это каким же-с?-опешил Васька, но недаром он был сообразительным малым. Минуту спустя в коридоре, будя остальных постояльцев, еще осмеливающихся дрыхнуть на виду таких невероятных событий, раздался его отчаянный вопль:
– Да-арья! Да-арья, теста калужская… Лети к Страстному за автомобилем! Лети, пропащая твоя душа!..
Глава двадцать первая
В ПЕЩЕРЕ ВРЕМЕН НЕОЛИТА
Товарищ Боб кричал в черную дыру:
– Павел Петрович, вы слышите меня? Вы живы?
Он припадал к земле, поворачивал ухо к отверстию. Ответа не было. Из дыры тянуло теплом, прелой, затхлой вонью и еще легким сладковатым запахом серы. Дротов молча снимал с себя пиджак. Потом он развернул вторую лестницу, к концам ее, на случай, если она не достанет до дна, привязал веревку, воткнул лом в землю, загнав его на три четверти, привязал к его концу нехитрое свое сооружение и стал спускаться в дыру.
– Товарищ,-сказал он, когда из дыры оставалась видимой только его голова,- вам следует остаться и вернуть Кухаренко и Сиволобчика. Скажите им, что с Мамочкиным несчастье! Я полезу немедленно, в таком положении его нельзя оставить. Когда вернетесь, вытащим Мамочкина и поднимемся прочь отсюда.
– Хорошо,-отвечал Боб,-я не буду терять времени…
Колодец уходил вниз почти вертикально. Спускаясь по лестнице, Дротов скоро перестал ощущать под руками землю. Фонарь он держал в зубах. Лестница крутилась, свертывалась под его тяжестью, а дна все еще не было. Свет фонарика рассеивался бледным желтоватым веером, не доставая до земли. Дротов понял, что он висел в какой-то огромной пещере, случайно проникнув в нее с потолка. Может быть, она бездонна? Тогда Мамочкин погиб… Он решил спускаться вниз, пока позволит веревка.
Вскоре он заметил в темноте маленький огонек и догадался, что это-выпавший карманный фонарик археолога. И в тот же момент почувствовал, как теплые пары серы обложили его горло.
Из расщелины,-она находилась где-нибудь поблизости,-с квохчущим сипением бились серные пары. Вероятно, они и были причиной падения археолога. Но Дротов недаром в молодости копал уголь в донецких шахтах; он знал,- на большой глубине эти серные рудники нередки, и умел задерживать дыхание. Он ухватил веревку, обвил ее ногами и скользнул по ней вниз, готовясь каждую минуту зажать кулаки, когда под ногами обнаружится конец веревки. Скользнув, он почувствовал землю.
Археолог лежал на земле, лицом в мягкую, податливую глину, по-детски подвернув под щеки кулаки. Он уже приходил в себя. Его волшебный жезл воткнулся тут же, сломанный пополам.
– Вы не ушиблись?-спросил Дротов.
– Нет. Но куда мы попали, Дротов? Какие тут к черту подземные Кремли! Тут целые катакомбы!.. Где остальные?
– Товарищ Боб ушел разыскивать Кухаренко. Я думал, что вы разбились, Павел Петрович. Я послал его отыскивать Сиволобчика, чтобы на сегодня прекратить…
– Что прекратить?
– Поиски, Павел Петрович, но завтра…
– Бросьте говорить ерунду, Дротов… Никаких завтра, мы нащупаем ее еще сегодня, смею вас уверить… А ну, помогите мне подняться…
Пять минут спустя они снова подвигались по краю пещеры, стараясь не уходить от ее конечностей в глубину. Археолог предполагал, что пещера эта является неолитической. На пещерах и подземных ходах стоит вся Москва, и было время, когда наши дикие предки на зиму уходили в них на ночлег и прятались сами, и прятали свое несложное добро от диких животных и врагов. Он сказал об этом Дротову.
– Если это так, пещера должна выходить куда-нибудь за Москву, вернее всего к дюнам Москвы-реки, потому что трудно предположить, чтобы наши предки проникли в нее столь же неудобным способом, каким проникли мы…
Так прошло десять или двадцать минут: под землей путники потеряли всякое представление о времени. Они все подвигались и подвигались по краю пещеры, но конца ей не было. Тогда они решили вернуться назад и ждать возвращения товарища Боба. Путь наверх был все-таки один, а потеряв из вида фонарь, они рисковали остаться под землей.
У веревки, свисавшей вниз, как огромная серая змея, оба старика сели на землю, подложив мешки. Археолог предложил подкрепиться жареными котлетами.
– Приходилось ли вам когда-нибудь есть жареные котлеты сажен этак пятнадцать под землей? – спросил он усмехаясь.
– А приходилось,- отвечал серьезно Дротов,- у нас, в донецких шахтах.
Они долго молча жевали. Веревка висела безжизненным хвостом: наверху все еще никого не было. Неподалеку сипел серный газ, легкий его привкус закисал во рту. В пещере простиралась темная, до звона в ушах, мертвая тишина. Она жила таинственной и черной жизнью. И от этой тишины, обволакивавшей уши, от сладковатого запаха серы стариков придавила усталость, наседавшая тяжелым сном на глаза.
– Спать нельзя! Не спите, Дротов! – испугался археолог.
– Я не сплю,- сказал тот. И потом, чтобы сказать еще что-нибудь, языком, еле послушным от сонного забытья, промямлил: – А хорош, должно быть, был этот гусек Иван-то Грозный?
– Да,-отозвался археолог и, впадая в его тон, сказал:-Царь был обстоятельный.
– Хоть не место, да на то показывает, что вам придется о нем мне рассказывать… Не то засну!
Они потушили один фонарь, тот, что оставался гореть, прикрепили повыше на веревке: чтобы те, сверху, вернее его увидели. Оба полулегли. Дротов подпер голову кулаком, и археолог начал свой рассказ.
Глава двадцать вторая
В ДНИ ГРОЗНОГО ЦАРЯ…
– Да, Дротов, эти подземелья, муравленые ходы, кладбище костяков, горящих страшным, мертвым светом в темноте пещер,- все это тесно связано с личностью Грозного царя, насмешника и тирана, личностью, до сих пор еще тусклее освещенной русской историей, чем наши изнемогающие фонарики. В самом деле: что мы знаем о нем? В те дни, по свидетельству историка Забелина, "память предков была унесена потоком петровских преобразований; через пятьдесят лет родная старина стала от нас дальше ассирийской". В бешеном землетрясении петровских времен, вздернувших Россию не хуже, чем сейчас, на дыбу, ушла бы от нас в историческую тьму навсегда странная и зловещая, как хлебнувшая крови сова, фигура московского царя, если б не… иностранцы, оставившие кое-какой след в мемуарах. О Грозном писали: Горсей, Флетчер, Штаден. Но только в наши дни эти записи стали доступны русскому человеку.
В этих мемуарах во весь рост встает фигура страшного царя. Внешне "он был красив собою, одарен большим умом, блестящими дарованиями, привлекательностью", хитроватая русская усмешка сгибала сухие губы царя, и из-под спутанных бровей глядели черные глаза, ласковостью проникавшие в душу. Но чем ласковее царь был с человеком, тем большую казнь он ему готовил. Чем пышнее посылал дары, тем страшнее взимал отдачу в застенках. С детства любимым его занятием было: давить лошадью народ на площадях да с высоких кремлевских теремов сбрасывать животных. Его подбородок зловеще набухал, а нижняя губа закладывала верхнюю. Тогда лицо его напоминало "морду осатанелого зверя", глаза же мерцали желтоватой, жалеющей усмешкой: "Ох, тяжки муки рабишки моему, и он, царь, жалеет рабишку, попавшего в немилость!" Грозный истреблял своих врагов с какой-то ожесточенной планомерностью, десятками, сотнями бросал в тюрьмы, рубил головы, как кроликам, предавал жесточайшим мукам в промежутках между пирами и всенощной. И чем страшней были придуманные в застенках казни, тем усерднее молитва московского царя, распластанного ниц в горе и покаянии на церковных плитах, в скуфейке, в смиренном подряснике, еще липком от крови…
Иван Грозный царствовал сорок четыре года, и сорок четыре года Русь истекала кровью. Он предавал огню и мечу целые посады и села, большие города: Псков, Торжок, Новгород. В Москве люди боялись дышать; ходя по улицам, оглядывались вслед: не идет ли опричник? Отец доносил на сына, сын на мать, и муж доносом обвинял жену в чародействе на "государя московского". В подземных палатах-их много было нарыто под Кремлем и под Москвой – морили людей голодом, жаждой на селедке, секли правую руку и левую ногу, вгоняли иглы под ногти, сажали на кол, заливали в глотку кипящий свинец, подвешивали на дыбу, поднося чарку зелена-вина от царского стола. И люди так привыкли к крови, своей и чужой, что умирали молча, не разжимали ртов, когда в череп вонзался гвоздь, когда на щеках каленым железом выжигали похабные слова, на площадях, в дни масленичных или пасхальных потех, когда малиновым звоном заливались московские колокола и готовили помост для казней, как на театрах собирались на представление, и шуты и скоморохи дудели в сопелки и перебрасывались головами "государевых врагов", словно мячиками. Грозный царь взирал на народное веселье с набатной башни, сам подавал сигнал палачу рукавицей и по гривне жертвовал ему из царской казны за лихость…