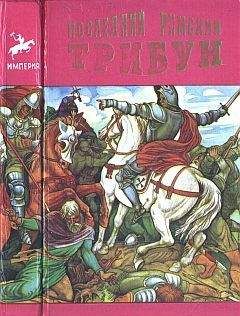Эдвард Бульвер-Литтон - Гарольд, последний король Англосаксонский
– Послушай моего совета и беги!
– Бежать?! – воскликнул рыцарь. – Да разве я надел доспехи и опоясал меч, чтобы бежать, как трус?
– Все это не поможет! Оса зла и свирепа, но весь рой погибает, когда под него подкладывают зажженную солому. Еще раз говорю тебе: беги, пока не ушло время, и ты будешь спасен, потому что, если король послушается безрассудного совета и вздумает разделаться с этой толпой оружием, то не пройдет дня, как уже не будет ни одного нормандца на десять миль вокруг города. Помни мои слова, молодой человек! У тебя, может быть, есть мать, не заставляй же ее оплакивать смерть сына!
Рыцарь подыскивал слова, чтобы вежливо высказать свое негодование подобному совету, и хотел протестовать против предположения, будто он мог прислушаться к нему из сострадания к матери, но в это время Веббу опять позвали в присутствие. Он уже не выходил больше в прихожую, а, получив короткий ответ Совета, прошел прямо на главную лестницу дворца, сел в лодку и тотчас же отправился на корабль, где находились граф и его сыновья.
Между тем Годвин изменил положение своих сил. Сначала флот его, пройдя лондонский мост, стал на время у берега южного предместья, названного впоследствии Соутварком; флот же короля Эдуарда выстроился вдоль северного берега. Но, постояв немного, графские корабли повернули назад и остановились против Вестминстерского дворца и, склоняясь немного к северу, как будто хотели запереть королевский флот. В то же время сухопутные силы его придвинулись к реке и встали почти на выстрел от королевской армии. Таким образом, кентский тан видел перед собой на реке оба флота, на берегу же – оба войска на таком близком расстоянии друг от друга, что их едва можно было различить одно от другого.
Над всеми прочими судами возвышался величественный корабль, на котором приплыл Гарольд с ирландских берегов. Корабль этот был построен по образцу драккаров и принадлежал некогда одному из этих грозных викингов. Длинный выпуклый нос высоко поднимался над волнами, будто голова морского дракона и, как змей, извивался по волнам и блестел на солнце.
Лодка пристала к высокому борту корабля, и через несколько секунд тан очутился на палубе. На противоположном конце лодки, на почтительном расстоянии от графа и его сыновей, стояла группа воинов.
Сам Годвин был не вооружен, без шлема, и при нем было одно только позолоченное датское копье – оружие, служившее только для украшения; но широкая грудь графа прикрывалась крепкой кольчугой. Ростом он был ниже всех своих сыновей, и, вообще, внешность его не подчеркивала большую физическую силу, как это обыкновенно бывает у людей крепкого сложения, которые до преклонных лет сохранили всю силу энергии и воли. Даже голос народа не приписывал ему тех чудесных физических качеств и подвигов богатырства, которыми славился его соперник Сивард. Годвин был отважен, но только как полководец; качества, которыми он отличался от всех своих современников, соответствовали понятиям более просвещенных веков, чем условиям той эпохи, в которой он жил. Англия была в то время едва ли не единственной страной, которая могла найти достойное применение его способностям. Он обладал всеми качествами, необходимыми для вождя: умел управлять народом и согласовать его мысли и желания с собственными; наконец, он обладал завораживающим даром слова.
Но, как все люди, прославившиеся даром красноречия, Годвин отражал дух своего времени, олицетворял его страсти и предубеждения и вместе с тем тот инстинкт собственной выгоды, составляющий отличительную черту толпы. Он был высшим представителем стремлений и потребностей своего народа. И какие бы ни были его ошибки, а быть может, и преступления, совершавшиеся при его участии в самых мрачных и ужасных обстоятельствах, он постоянно был для народа благотворным светилом среди грозных туч. Никто никогда не обвинял его в жестокости или несправедливости к народу; англичане смотрели на него, как на истинного англичанина, несмотря на то, что он в молодости был приверженцем Кнута и ему был обязан своим богатством и счастьем; они даже не придавали этому значения, потому что датчане и саксы так слились в Англии, что, когда одна половина королевства признала Кнута, другая – с восторгом подтвердила выбор. Строгости первых лет царствования Кнута были искуплены мудростью и кротостью последующих лет и редкой приветливостью его к приближенным; притом в это время все обиды были забыты и в памяти подданных сохранилась только слава его царствования и его доблести; народ с гордостью и любовью вспоминал его имя и потому уважал Годвина, что он был любимым советником мудрого государя.
Известно также, что Годвин после смерти Кнута желал восстановить на престол саксонскую линию и, если покорился решению Витана, то единственно из уважения к народной воле. Одна только подозрение пятнало его имя – и этого не могли совершенно смыть ни покаянная клятва, ни оправдание народного судилища – подозрение в гнусной выдаче Альфреда, брата Эдуарда.
Но прошло уже много лет со дня совершения этого злодейства и у всего народа была вера в то, что с домом Годвина связана судьба Англии. Наружность графа говорила в его пользу: у него был широкий лоб, осененный спокойной, кроткой думой; темно-голубые глаза, ясные и приветливые, с выражавшейся в них глубокой затаенной мыслью; редкое благородство осанки и поведения, без всякой чопорности и жеманства. Общее мнение приписывало ему чрезвычайную гордость и высокомерие, но только в поступках; обхождение же его со всеми было просто, приветливо и дружелюбно. Сердце его, казалось, всегда сочувствовало ближнему, и дом его был открыт для нуждающихся.
На корабле за ним стояли его сыновья, коими он по праву мог гордиться. Их лица не были похожи, но природа наделила их одинаковой цветущей красотой и богатырским складом.
Свейн, старший сын, унаследовал смуглый цвет лица своей матери-датчанки; в крупных правильных чертах его, носивших отпечаток печали или страстей, было какое-то дикое и грустное величие; черные, шелковистые волосы падали в беспорядке и почти закрывали ввалившиеся глаза, сверкавшие каким-то мрачным огнем. На плече его лежала тяжелая секира. На нем была броня, и он опирался на огромный датский щит. У ног сидел юный сын его Хакон, с несвойственным его возрасту выражением задумчивости.
Подле Свейна стоял, скрестив на груди руки, самый грозный и злобный из сыновей Годвина – тот, которому судьба предназначила быть тем же для саксонцев, кем был Юлиан для готов. Прекрасное лицо Тости напоминало греческий тип, кроме лба, низкого и узкого. Светло-русые волосы его были гладко зачесаны, оружие оправлено в серебро, потому что Тости любил роскошь и великолепие.
Вульфнот, любимец матери, был еще молод; в нем одном из всего семейства видна была какая-то нерешительность и нежность; он был высокого роста, но, очевидно, не достиг еще полного развития; тяжесть кольчуги казалась непривычной для него тяжестью, и он опирался обеими руками на древко своей секиры.
Около него стоял Леофвайн, который был полной противоположностью брату: его светлые кудри свободно вились вокруг ясного, беспечного лица, а шелковистые усики оттеняли уста, с которых не сходила улыбка даже в этот тревожный час.
По правую руку Годвина, немного в стороне, стояли, наконец, Гурт и Гарольд. Гурт обнимал рукою плечо Гарольда и, не обращая внимания на Веббу, дававшего отчет о результатах своего посольства, наблюдал только за действием его слов на Гарольда, потому что любил брата, как Ионафан – Давида. Гарольд один был совершенно безоружен, а, если бы спросили любого из ратников, кто из всего семейства Годвина рожден воином, он, вероятно, указал бы на него, безоружного.
– Что же сказал король? – спросил Годвин.
– Он не соглашается возвратить тебе и твоим сыновьям владения и звания и даже не хочет выслушать тебя, пока ты не распустишь свои войска, не удалишь суда и не согласишься оправдать себя и свое семейство перед Витаном.
Тости злобно захохотал; пасмурное лицо Свейна стало еще мрачнее; Леофвайн крепко сжал правой рукой свой меч; Вульфнот выпрямился, а Гурт не спускал глаз с Гарольда, лицо которого оставалось совершенно спокойным.
– Король принял тебя в военном совете, – проговорил Годвин, – где, разумеется, участвовали нормандцы; а кто же был на нем из знатнейших англичан?
– Сивард Нортумбрийский, твой враг.
– Дети, – обратился граф к сыновьям, глубоко вздохнув, как будто громадная тяжесть свалилась с его сердца, – не будет сегодня нужды в мечах и кольчугах; Гарольд один рассудил справедливо, – добавил Годвин, указывая на полотняную тунику сына.
– Что ты этим хочешь сказать? – спросил Тости злобно. – Уж не намерен ли ты...
– Молчи, сын, молчи! – перебил Годвин твердым повелительным тоном, но без суровости. – Иди назад, храбрый, честный приятель, – продолжал он, обращаясь к Веббу, – отыщи графа Сиварда и скажи ему, что я, Годвин, старый его соперник и враг, отдаю в его руки свою жизнь и честь и что я готов безусловно следовать его совету, как мне поступить... Иди!