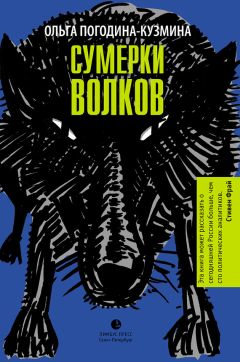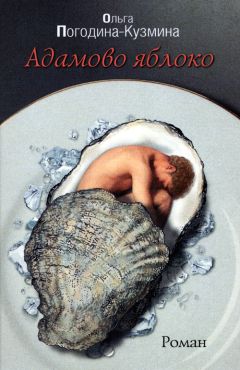Борис Савинков - То, чего не было (с приложениями)
Как это произошло, никто не знал и никто бы не сумел объяснить. Какое именно из распоряжений правительства переполнило чашу? Какой именно революционер подал пример отваги? Чья невинная кровь растопила Северный полюс?… Так Нева, полноводная и большая река, спит зимой в своей каменной колыбели. Но вот, резвясь, соскользнул с тюремного бастиона апрельский живительный луч. Снег засверкал алмазными искрами, но не побежали ручьи и не тронулся лед. За первым лучом брызнул второй. Над Петропавловской крепостью засияло петербургское солнце, – бледный, немощный и все-таки всемогущий Дракон. И невидимкою, тайно, на дне, на морозных невских глубинах, омывая Алексеевский равелин, зазвенели, журча, гремучие ручейки. К ним понеслись говорливые воды. С тяжким грохотом вскрылась Нева, и пошел весенний, звонкий и ломкий, всесокрушающий лед.
Когда вышел манифест 17 октября, Андрей Болотов не сразу понял его значение. Он со вниманием читал широковещательные страницы о созыве Государственной думы, о свободе печати, совести, союзов, собраний, но, читая эти слова, не мог освоиться с ними. Тогда, когда он встретил на Невском мальчишку, продающего карикатуры на Витте, когда он купил одну из этих карикатур и прочел остроумно-грубую подпись под ней – насмешку над всесильным министром, – он понял, что в России что-то переменилось, что, каково бы ни было новое, старое, дряхлое и ветхозаветное вернуться не может. Первый раз в жизни он испытывал счастливое чувство освобождения: падали все неразгаданные вопросы, те вопросы, которые удручали его в последнее время. Можно было забыть о терроре, о Ване, о смерти, о своем праве на жизнь. Все опять было ясно. Казалось, достигнуто главное, то неоспоримое главное, в чем заключалась сокровенная цель всех усилий: казалось, открылся путь в обетованную землю – к справедливому и свободному устроению России. Но это чистое и светлое чувство пришло не одно. Его отравило недоумение: как приспособиться к жизни, как жить вне подполья, вне комитета, вне конспирации, как отвыкнуть от партийных привычек, как устроить не мир, а свою муравьиную жизнь? Спрашивая себя впервые, что он знает и на что он способен, Болотов с удивлением признавался себе, что, кроме революционного опыта, у него нет богатства и что, кроме навыков конспирации, он не вынес из партии ничего: многотрудная жизнь миллионов серых людей была ему неизвестна, непонятна и недоступна. И становилось жаль, что так скоро все кончено, что революция уже победила, что он, как поденщик после расчета, бесприютен и сир. С горечью вспоминались когда-то слышанные от Арсения Ивановича затейливые слова: «Сатана гордился – с небес свалился, Фараон гордился – в море утопился, а мы гордимся – куда годимся?…» Третье чувство, которое он испытывал, наиболее сложное, рождавшее в нем одновременно и надежду и озлобление, было неискоренимое доверие к возвещенной манифестом свободе. Он видел еще недавно измученное, а теперь умиротворенное лицо Веры Андреевны; видел самодовольную улыбку доктора Берга, точно именно доктор Берг руководил забастовкой, слышал старческий бас Арсения Ивановича: «Теперь, кормилец, шабаш… рычагом не выворотишь, жерновом не вымелешь…» Он видел и слышал все это и все-таки не мог успокоить горького, взращенного годами, сомнения. Его смущала не капитуляция правительства, а единственно то, что она наступила так скоро, без упорной борьбы и почти без жертв. Видя, как внезапно, помимо его желания и воли, вспыхнула великая забастовка, как широко она разлилась, как глубоко потрясла всю Россию, он понял и с сокрушением признал, что не партия со своими комитетами «сорганизовала» ее и что не в ее, партии, власти остановить, ускорить или замедлить величавый ход надвигающихся событий. И это, очевидное для всей России, бессилие возлюбленной партии было источником для него непрестанного и тяжкого огорчения.
Колебания его продолжались недолго. Однажды, торопясь в редакцию партийной, разрешенной новым законом, газеты, он проходил по нарядной Адмиралтейской набережной. Омраченная осенним ветром, Нева сердито вздувала свои свинцовые воды. Воздух был влажен. Таял желтый, волнистый, петербургский туман. В Александровском, голом, усеянном ржавым листом, саду теснился народ. Серая, сдержанно-молчаливая, точно делающая свое важное, кровное, всем одинаково близкое дело, толпа выливалась темными брызгами на Адмиралтейский проспект и редела на Исаакиевской площади. Кое-где уныло, как тряпка, висели красные флаги. На черных сучьях деревьев и на чугунных столбах решетки гнездились галчата – голодные уличные мальчишки в надвинутых на уши шапках и в тяжелых подкованных сапогах. Какой-то, совсем еще юный технолог, в расстегнутой, несмотря на туман, тужурке, несмелым тоненьким голоском говорил обычную речь: «Товарищи!.. Манифест!.. Свобода!..» – сквозь холодную мглу долетали до Болотова обрывки знакомых слов. Болотов видел густое море людей, над этим безмолвным морем безусое лицо говорящего речь студента. Уйти было некуда: всюду – спереди, сзади, слева и справа, его сжимали чьи-то мокрые, широкие спины, чьи-то плечи, чьи-то стесненные груди. Вдруг студент крикнул что-то, чего Болотов не успел разобрать. Толпа вздрогнула, потом тихо, как бы в раздумье, поколебалась. Потом опять вздохнула сильнее, глубже. И вдруг сразу, как стадо перепуганных коз, давя и толкая друг друга, спеша, волнуясь и задыхаясь, шарахнулись стены смятенных человеческих тел. Кричали дети, плакали матери, мужчины с побледневшими лицами, сжав кулаки, силой пробивали себе дорогу. Стоял топот и рев и придушенный, сдавленный отчаянием стон. Болотов поднял голову. На пустынном Адмиралтейском проспекте, загораживая выход из сада, сплошною цепью протянулись солдаты в измокших, грязно-серых шинелях. Почему-то именно эти шинели, их твердое и унылое однообразие, вселяли суеверный, нерассуждающий страх. «Неужели будут стрелять? – мелькнуло у Болотова, но эта мысль показалась смешной. – Стрелять? Да у нас ведь свобода…» – с облегчением подумал он. Но в ту же минуту раздался странный, короткий, неожиданный треск. О решетку сада защелкали пули. Болотов видел, как с оголенной, чахоточной липы, ломая ветви, покатился маленький, невзрачный комок. На потемневшей сырой дорожке, неудобно подвернув под себя правую руку, лежал ничком мальчик лет десяти. Он лежал так спокойно, точно не он упал сверху, а кто-то другой, а он лег сам, по своей охоте. Издали можно было подумать, что он крепко спит. Болотов наклонился. Из-под ушастого, должно быть, тятькиного картуза виднелась тонкая шея с завитками нежных светлых волос. Плечи были худые и торчали углами. К слабому тельцу, к узкой детской спине прилипла розовая, в рваных заплатах, рубашка. Не отдавая себе отчета, Болотов осторожно тронул мальчика за плечо, но тотчас, отдернув пальцы, встал и медленно мимо солдат вышел на Невский. «Обернуться?… Не обернуться?… Бежать?… – думал он, чувствуя легкий и неприятный озноб. – Что это? Неужели я трус?…» – кольнула обидная мысль, и, выпрямившись во весь свой Высокий рост, он нарочно замедлил шаги и пошел по Невскому, прямо по мостовой. Он шел один. Кругом не было никого.
X
В начале декабря, когда крепко стал санный путь и мороз зачертил узоры на окнах, в Петербурге упрямо заговорили о неминуемых баррикадах. Хотя Болотов и его товарищи знали, что никакими постановлениями нельзя заставить людей бунтовать, если они этого не хотят, они все-таки думали, что их долг перед партией разрешить вопрос «государственного значения»: быть или не быть забастовке, то есть всероссийскому вооруженному, как им казалось, непременно победоносному восстанию.
Заседание было назначено в 11 часов вечера на Каменноостровском проспекте, в уединенном особняке купца Валабуева. Внизу, у резного, в русском стиле, подъезда ливрейный лакей бесшумно отворял дубовые двери. Товарищи, раздевшись и отряхнув мокрый снег, подымались по мраморной лестнице во второй этаж, в кабинет хозяина дома. Там их встречал Валабуев, рыхлый, с обрюзгшим сытым лицом господин, остриженный под гребенку. Он был одет по английской моде: в узкие брюки, просторный черный сюртук и цветную жилетку. Он не знал никого, кто должен был явиться к нему, но здоровался дружелюбно, как добрый знакомый: библейская борода Арсения Ивановича внушала ему уважение и страх.
Когда Болотов вошел в кабинет, все товарищи были в сборе. Недоставало только Аркадия Розенштерна да приезжего из Москвы Владимира Глебова, или, как в партии называли его, «Володи».
В полутемном, дальнем углу, на диване; род большим, писанным во весь рост, портретом Толстого, Вера Андреевна разговаривала со старым, густо заросшим курчавыми волосами евреем. Болотов знал этого человека – фамилия его была Залкинд, – знал, что он всю свою долгую жизнь томился по тюрьмам и, как умел, служил революции. Но Болотов его не любил. Не любил за зеленоватое, золотушное, в красных прыщах лицо, за воспаленные, оловянные глазки, за неопрятный пиджак и за преувеличенную товарищескую развязность. Он стыдился этой своей нелюбви, упрекал себя в несправедливости и пристрастии и старался быть с Залкиндом изысканно предупредительным и любезным. Завидев Болотова, Залкинд приветливо закивал головой и, не вставая, протянул холодную и сырую руку: