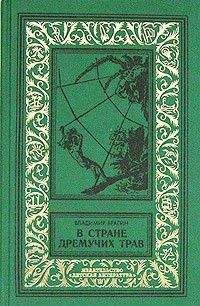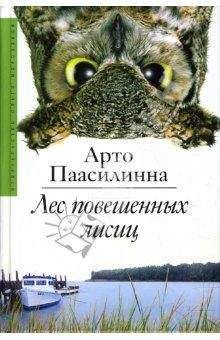Константин Тарасов - Погоня на Грюнвальд
– Кульчиха,– запалился Мишка,– ты меня научи.
– Ты не научишься,– сказала шептунья.– В лесу надо жить, землю слушать. А ты – боярин, твое дело воевать, пока довоюешься. Ведь очуняешь, поднимешься – опять на коня?
Мишка встрепенулся:
– А скоро ли подымусь?
– Колядные морозы придут – поднимешься,– ответила старуха,– а конно раньше пасхи не сможешь.
Радуясь близкому исцелению, он неожиданно вспомнил сестру, ее мучительную неподвижность, нудное заточенье в избе.
– Бабка Кульчиха,– спросил он,– почему ты нашу Еленку не излечишь?
– А как ее целить? Ее напугать надо.
– Мы пугали,– возразил Мишка,– не помогает.
– Ей настоящий страх нужен,– сказала шептунья.– А что вы с Гнаткой волчью морду в окно всовывали – за это обоим руки бы поотсечь. Тот, медведь, ходит – землю трясет, а разум как у дитяти, и у тебя не шибко ума. Додумались – живого волка связать...
– Откуда знаешь? – поразился Мишка.
– Гнатка приходил за советом: как еще пугануть. Я говорю: что волк, зубра надо пригнать. Как сунется в дверь, мертвый подскочит, не то что ваша Еленка. Подумал: нет, говорит, зубра – силы не хватит. Я говорю: нет силы – браться не надо. Добра не смыслишь, худа не делай. Не вашего ума труд. Придет час, без вас напугают. На все срок есть. Раньше срока не сделается, хлопец, как ни тужься...
Скоро Кульчиха стала оставлять Мишку одного. Приходила какая-нибудь баба, рассказывала свою беду, и шептунья надевала древний кожушок, обвязывалась платком и исчезала на полдня, не забыв поставить Мишке у изголовья питье и горшок с едой. Возвращалась она продрогшая, в дождь – промокшая до последней нитки, но тут же бралась за обычное дело – толочь, варить, запаривать. Мишке становилось жаль старуху, он говорил:
– Ты бы прилегла, бабка Кульчиха, погрелась бы на печи.
– Чего лежать? – отвечала старуха.– Не хворая. Да и не лежится, Миша, без дела. Вспоминать, что было,– так его нет, наперед думать – не невеста. Что делаешь, тем и жив. А прилег дремать – будто мертвый.
– Отдохнешь,– уговаривал Мишка,– силы прибудут.
– Помру – отлежусь.
Мишка не находил что возразить, задумывался: где же силы берет? Не понять, в чем душа держится, никакой плоти, светится вся насквозь, а без дела минуты не просидит. Плоть слабая – дух сильный. Земля бережет Кульчиху, думал Мишка. Вот не было бы бабки, где он сам сейчас бы лежал? Может, в земле, как Данила. Не нашлась для него такая шептуха. Теперь Ольга одна живет... И так невольно сложилось в правило, что, о чем бы он ни думал, обязательно думы выводили на Ольгу. «Подымусь на коляды – съезжу навестить»,– решил Мишка.
Но неожиданно Ольга сама подала весточку. В один из морозных дней долетел в избу перестук копыт по мерзлой дороге, потом – заливистый брех Мухи, храп коня, стук в двери, и вошел Юрий, держа в руках небольшой узелок. Заметив Кульчиху, поздоровался; та уставилась на него пытливо и строго. – Я вот его навестить,– объяснил Юрий и, поставив узелок на стол, подошел к Мишке.– Сестра тебе кланяется и гостинец передает...
– Скажи: благодарен ей!
– Что за гостинец? – полюбопытствовала от печи Кульчиха.
– Не знаю. Целебное что-то.
Шептунья недоверчиво развязала узелок – там оказались два запечатанных воском горшочка. Сколупнув воск, Кульчиха попробовала на палец содержимое. Юрий почему-то забоялся, что старуха выбросит горшочки или скажет увозить. Но она пробурчала нечто одобрительное и понесла горшочки на полку в холодный угол.
– А еще Ольга велела передать,– успокоенно продолжил Юрий,– что желает тебе здоровья.
– И ты передай сестре, что добра желаю. Юрий кивнул:
– Передам!
– Скажи: вспоминаю о ней.
– Скажу,– заверил Юрий.
И оба замолкли, не зная, о чем говорить.
– Ну, а ты как? – спросил Юрий, мучаясь этим молчанием.– Лучше тебе?
– Да так, лежу,– отвечал Мишка.– Очунял с бабкиной помощью. А ты у Ольги сейчас живешь?
– Нет. Наведать пришел.
– Значит, в одиночестве она...– посочувствовал Мишка.– Горюет?
– Конечно, не по себе.
– Ну, передай мой поклон.
– Передам.
– Скажи: даст бог встать – заеду.
– Скажу.
Опять замолчали. Мишке хотелось спросить: неужто Ольга сама сказала брату поехать, дала коня, собрала узелок? Что при этом говорила, чем объясняла, отправляя за двадцать верст? Но не спрашивал, стесняясь шептуньи.
– Буду ехать мимо твоих,– сказал Юрий.– Может, передать что?
– Передать? – задумался Мишка.– Что передавать? Скажи: живой и здоровый.
Кульчиха хихикнула:
– Ага, скажи: здоровый уже ваш Мишка, как вол. Она прошаркала к Мишке, неся ковш.
– Глотни, богатырь. И ты присядь, раз явился,– сказала Юрию повелительно.– Спешишь, словно гонец.
Стукнула клямка, и вошел старик с обернутой в рогожу лирой на одном плече и скудной котомкой на другом.
– Признаешь, бабка? – поклонился он Кульчихе.– Давно не виделись.
– Давно ты здесь не был,– согласилась Кульчиха.
– Иду, думаю: дай гляну, жива ль ты еще.
– Хорошо бы и помереть,– отвечала шептунья,– да времени нет. Куда, старый, бредешь в такой холод?
– Куда глаза глядят. Может, в Слоним или в Волковыск. Зима близится. Был бы медведь – в берлогу залез, а так – печка нужна.
– Садись грейся!
Старик без лишних слов пристроился у печи.
– Да, плохо без своей хаты,– сказал Юрий участливо.
– А на что мне своя хата? – улыбнулся старик.– Мы, лирники, живем, пока ходим; помираем в пути. Идешь, присел отдохнуть и заснул вечным сном. Мишка не поверил:
– Разве, дед, всю жизнь ходишь с лирой?
– Весь век. С того дня, как деревню крыжаки пожгли. Это сейчас меня борода к земле тянет, а тогда хлопчиком бегал... Как-то на Тётю сидим празднуем – батька, мать, сестра старшая. Вдруг грозный топот, злое ржанье, страшная речь. Отец глянул в оконце – и за топор. А трое кнехтов уже в хату идут. Первый вошел, широкий голый меч в руке держит. Отец взмахнул топором и врубил ему в грудь, как в осину. Взял меч, перекрестился и ступил за порог. Мать следом нас вытолкала: «В лес, детки!» Я понесся, сестра и мать сзади бегут. Там и бежать-то всего было – полоска житная, и сразу чаща – укрытие! Бегу, а впереди – ви-р-р! – стрела впилась в землю, и еще одна над головой прошла, прямо по волосам. В деревьях оглянулся – два белых пятна на стерне лежат. А отца возле хаты дорубливают... А потом мне старец встретился, приласкал, я ему лиру стал носить. Лет десять вместе бродили. Как-то пришли в Новогрудок, тогда еще Михаил Кориат там княжил, старец мой перед самым городом говорит: «Ноги гудят», прилег отдохнуть и тихо, бессловно помер. Люди добрые дали мне лопату, я старца схоронил; досталась мне лира. Три года в Новогрудке прожил, потом в Чарторыйске женился, князь ночным стражем в замок взял. Только недолго счастье мое длилось. Прихожу утром домой – тишина: все мои насмерть угорели. И что удивительно: когда были жена и детки, редко пел, а когда пел – мало люди слушали, а как все потерял, пою – и слушают...
– Голый, что святой,– сказала Кульчиха,– зла не боится.
– Ага,– улыбнулся лирник,– хуже, чем есть, не сделается, а лучше – сам не хочу.
Юрий спросил с жадным вниманием:
– Похоже, дед, ты и на Синей Воде был?
– Было, бился против татар,– отвечал старик.– Ольгерд большое войско собрал. А наш князь Кориат Новогрудский всех, кто мог оружие держать, повел в этот поход. Не счесть, сколько народу шло на святое дело. Ночью взойдешь на древний курган, оглянешься на таборы – огней по степи, как звезд на небе. И у каждого не двое, не трое, а десяток людей. Коноводы всю ночь табуны гоняют на водопой, и над степью мгла ночная дрожит от нетерпеливого ржанья. А чуть заря – войско тянется по травам тремя ручьями в десять верст каждый. Кто конно едет, кто пеше идет, скрипят подводы, на них грудами доспехи блестят.
Трава нагреется – пьянит, небо сияет синью... А я сам молодой, и вокруг молодые...
Старик расчувствовался, вдохновился, глаза его молодо засияли, и сам он гордо распрямился, словно ожившая память, вернув в давние дни, вернула и давнюю силу.
– Подошли к Киеву, там кучка татар сидела – дань брала с киевлян; татар тех как ветром выдуло. Сто годов был Киев под татарской неволей, а мы пришли – рассыпался этот гнет. Колокола звонят, из Софийской церкви крестный ход, из Печерской лавры древние старцы вышли, все христосуются, как на пасху,– свободным стал Киев, кончилась татарщина. Потом пошло наше войско на Канев и Черкассы, к Южному Бугу, к Синей Воде. Поле и небо – две равнины. И там, где смыкаются небеса с землей, вдруг черная полоса, как змея поперек дороги,– татары. Три хана – Котлубай, Катибей, Димир – для битвы объединились. Утро пришло, солнце поднялось над Диким полем – мы уже стояли в шихтах. Ольгерд развел полки широкой подковой, наши новогрудские хоругви поставил по сторонам – оберечь от татарских наскоков бока. Так и стояли мы, как рыбаки, когда сеть тянут против течения. А косяки татарские напротив нас, в двух полетах стрелы. Ждем. Трава сохнет. Шлемы греются. Холодно на душе. Вдруг конские хвосты на сотенных древках замотались, грохнули бубны, татары стронулись. Тогда Ольгерд подал знак – наши наставили копья. Годины две татары крепко держались, потом начали жижеть, как студень на солнце, заворачивать коней. А мы на хвосты им сели, целый день гнали по степи, все Дикое поле покрыли трупами, травы местами не было видно. Распорошили их до самого Крыма. Все Подолье, всю Украину от татар очистили...