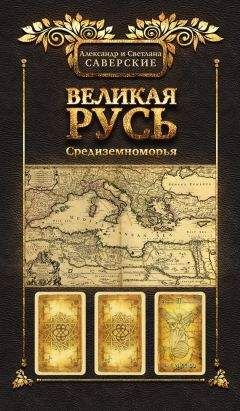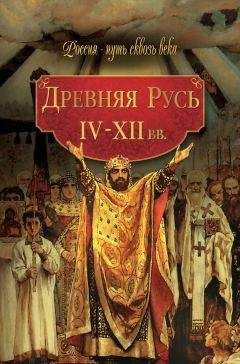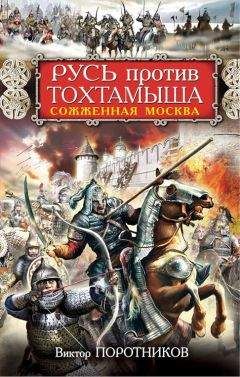Виктор Сергеев - Унтовое войско
Письмо он отправил со срочным курьером на имя начальника Камчатки.
У Муравьева шевельнулась было мысль: самому, не ожидая разрешения царя, приказать Невельскому плыть в устье Амура. Взять всю ответственность на себя.
На память пришли слова из полковой песни офицеров-кавказцев:
Устройся как возможно тише,
Чтоб зависти не возбудить.
Безмерно не вздымайся выше,
Чтоб после шеи не сломить.
Песенка-то пустячная, шуточная, а вот ведь… бывает же — связала Николая Николаевича по рукам и ногам, притушила в душе всякую решимость отдать приказ без воли царя. И как пожалел он, что пришла она ему на ум не ко времени.
Через полмесяца после того прискакал на перекладных его адъютант, привез из Петербурга инструкцию, подписанную государем. Невельскому разрешалось провести исследование амурского лимана!
Как же теперь? Невельской возьмет в Петропавловске письмо, узнает, что от царя все еще ничего нет да и не будет… возьмет курс на Кронштадт… и год потеряет. А в жизни человеческой год — это ой как много!
Муравьев решил послать своего адъютанта в Охотск. Невельской не мог миновать на «Байкале» этот порт, там его можно успеть перехватить и вручить ему государеву инструкцию.
Адъютант уехал, а генерал дал себе слово не поддаваться чувствам, возникающим от случайных обстоятельств. Не хватало, чтобы еще раз помешал ему в серьезном деле какой-нибудь пустяк… вроде той шутливой песенки.
И в тот же день генерал записал для себя: «Слабый духом отчаивается и ни в чем не находит утешения. Менее слабый ищет утешения в религии. Моя же участь твердостью все переломить и переносить хладно то, что других приводит в отчаяние, и вот мой девиз: всякое добро и зло употреблять в свою пользу, а это все равно что в пользу отечества».
Давным-давно он, Муравьев, видел часто во сне мертвых в гробах, и однажды все они на него смотрели, будучи даже полусгнившими. Виделись ему поля, засеянные сгнившей пшеницей. Во сне он не раз скитался посреди незнакомых, неприязненных людей.
Дурные сновидения прошли после того, как встретил на юге Франции девицу де Ришемон, ставшую его женой. Теперь она звалась Екатериной Николаевной. Она недурственна собой, даже красива… Точеные черты лица — ее глаза, ее губы, ее лоб — все, решительно все, даже ее голос, все дышало умом, все выказывало образованность, мягкость доброго и отзывчивого характера. Как быстро она полюбила Россию!
С каким рвением принялась обучаться русскому! Незрелый ум не смог бы.
Всего лишь два года, как они поженились. Два года. А что осталось от оранжерейной де Ришемон? Ничего не осталось. Ее просто нет, а есть мужественная Катенька. Она не только поменяла Францию на Иркутск. Она скоро поедет с ним на Камчатку. Боже мой, кто бы мог подумать! Уж он ли не отговаривал ее — пугал морозами, клоповными почтовыми станциями, дорожной тряской, якутской безлюдной тундрой. Куда там! Необузданные чувства! Она только смеялась и твердила:
— С милым и в раю шалаш!
Он хохотал, она смешно морщила нос, трясла головкой в папильотках и снова путала слова, краснела и смеялась:
— Рай в шалаше! Рай в шалаше!
Попробуй неотвязчивую отговорить. Николай Николаевич уступил.
— Катенька! — позвал он. — Тебе не скучно?
Ждал ее и все волновался, где она, придет ли скоро. А чего волноваться? Где его Катенька? Не далее, как у себя в будуаре.
Успокоился, когда ее мягкие теплые руки коснулись его щек.
— По уму и душевным качествам ты многое заслуживаешь, а то, что ты проделала из одной лишь любви ко мне, то это выше всякой похвалы и одобрения. Ты поняла меня?
— О нет, я все поняла! Ты опять хвалил… меня. Много хвалил. У меня… кружил голова. Перестань же, пожалуйста, Николя.
Муравьев взглянул на эмблемы и символы, усмехнулся: «Женщина-История и женщина-жена. Кто нам дороже?» Спросил Екатерину Николаевну:
— Ты бываешь у Волконской и Трубецкой?
— О да! Бываешь… У них дети английский, французский… Как это? Дети… у них…
— Изучают языки?
— О да! Изу-ча-ют. Ре-пе-ти-ру-ют.
Николай Николаевич посерьезнел, заговорил по французски, что делал крайне редко, стремясь быстрее обучить жену изъясняться по-русски. Но сейчас ему хотелось, чтобы Катенька уразумела все как следует.
Губернатор гражданский и жандармский полковник отправили донос царю. Муравьев-де со своею супругой завязали знакомства с семействами декабристов Волконского и Трубецкого, тем самым указали, какое им, декабристам, подобает занимать место в иркутском обществе. Забавно, что этого им, доносителям-недоумкам, показалось мало и они присовокупили к моей либеральности губернскую гербовую печати, привезенную мною из Петербурга. На печати-де у него, Муравьева, корона, проткнутая мечом. Опростоволосились вовсе, показав, что ничего не смыслят в геральдике.
— Дурные новости из Петербурга? — с тревогой спросила Екатерина Николаевна. — Ты, право, Николя, сначала делаешь, потом думаешь. Я, как могла, удерживала тебя, умаляя твою пылкость и неуравновешенность.
Заметив, что муж улыбается, Екатерина Николаевна облегченно вздохнула.
Ты всегда такой… Сначала, не подумав, попугаешь меня, а уж, подумав, поуспокоишь. Так что же из Петербурга?
— Государь вернул донос мне… для объяснений. И тут я поступился своей привычкой — попугать тебя, Катенька. Я просто умолчал обо всем перед тобой, а порфироносцу объяснил, что декабристы-де давно искупили свою вину, и ныне вижу я в них лучших подданных его величества, что они не должны быть навсегда изгнаны из общества, что они умны, образованны и преданы трону. И что в том плохого, если я введу их в общество и отменю всякие нелепые, и вздорные ограничения? Помилуй бог, что это за порядок, если Волконские не могут отъехать от Иркутска лишние пять верст? Можно подумать, что за околицей нашей сибирской столицы там и сям распространяются иные крупные города. Вот ведь рассуждение какое: по Иркутску передвигайся, как хочешь, но не вздумай проехать по пустынной степной дороге и, упаси бог, если без спросу забредешь в глухой лес. Оставайся денно и нощно, где тебя поселили, и из-под недремлющего ока нашего жандарма не ступи и шагу. Так-то ему, недремлющему оку, спокойнее, а где дело совершается по уму, а где — не по уму, так в этом наши незадачливые доносчики смолоду не разбирались. Порой думаю, как Христос: «Прости им, господи, не ведают, что творят».
Екатерина Николаевна, признательно глядя на мужа, все же укоризненно качала головой. Неисправимый… Опять сам поднял над своей же головой нож гильотины. Ведь чего проще отписать своему доброжелателю Льву Алексеевичу[17]. Эти декабристы как раз по его ведомству. Ну, если уж опасаешься, что твою бумагу похоронят под всякими предлогами в канцеляриях министерства, где врагов у тебя отыщется предостаточно, так отпиши самому государю императору. Ты же имеешь право писать все, что хочешь, прямо в собственные его величества руки. Так нет же! Никому ничего… В Петербурге ведать не ведают, что генерал-губернатор Восточной Сибири своею властью, никого не спросись, отменил ограничения в переездах декабристов, завел с ними личное знакомство, чем возбудил кривотолки в городе. А как на все это посмотрели в правительствующем сенате, что скажет государь?
Муравьев угадал, о чем думала жена. Он сам думал сейчас о своей манере принимать порой ответственные решения, которые принимать ему не полагалось по занимаемой должности и имеющемуся чину.
— Прости, Катенька. Что же мне делать? Расстояния, отделяющие меня от Петербурга, столь велики, что дело можно загубить, если полагаться во всем на нашу почту. Чует мое сердце, что успех сопутствует мне и надо дерзать — приучить себя к быстроте в действиях да и заодно… — легкая улыбка тронула его губы, — заодно приучить к себе вельможный петербургский свет. Вот послушай-ка, что пишет мне Лев Алексеевич. Истинная опора моя…
Николай Николаевич вынул из инкрустированного ларца с секретным замком сложенный вчетверо лист бумаги.
— Ну, это так себе… Это опять же не то. Вот! — Он перевернул лист. — Лев Алексеевич сообщает о том, что молвил государь в ответ на мое объяснение. Вот: «Нашелся человек, который понял меня, что я не ищу личной мести». Вот и все. Катенька! Вот и все наши страхи, милая! Губернатора гражданского я еще ранее заставил подать прошение об отставке. Не подумай, что повлиял тот его донос на меня. Тогда я ничего не знал о доносе, За ним дело темного свойства. Касательно золотых приисков. А ныне он будет уволен за донос без прошения для себя о чтем-либо. А уж о нашем жандарме Лев Алексеевич побеспокоился. Он мне тут, в письме, правда, не удержался и целую кучу советов надавал: «Действуйте, сколь можно осмотрительнее, хладнокровнее, без шума и отдаляйте каждый повод к нареканиям и жалобам. О вашей вспыльчивости, о поспешности в решениях у нас говорят много».