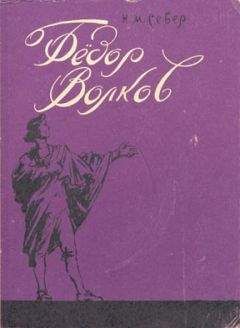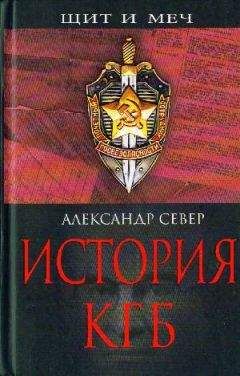Филипп Вейцман - Без Отечества. История жизни русского еврея
Поэты очень самолюбивы, а у меня даже слезы навернулись на глаза; но эта злючка, довольная своей местью, расхохоталась мне в лицо, и ушла уверенная, что я и эти стихи, как и предыдущие, порву. Но она ошиблась, и я их не порвал. Да будет ей стыдно! Кроме того, как знать, может она и права. Через несколько дней она вновь пришла, сильно смущенная, опустила глазки, и извинившись передо мной, стала меня уверять, что все ею продиктованное, совершенно не соответствует ее обо мне мнению. Мы помирились. Однако я заметил, что Муза не успокоилась, и ее душу продолжали волновать, не знаю какие, бунтарские чувства. Я не ошибся. Извинившись и помирившись, она сама принесла мне лист бумаги, сунула в руку перо, и громко провозгласила:
«ДЕТИ БУРИ» (Четырехстопная хорея).
Нам ли, нам ли, детям: бури.
Белых вьюг и черных гроз;
В царстве солнца и лазури
Пить дыханье вешних роз?!
Нам ли, нам ли жить во власти
Легких ласк и нежных грез?!
Нам родившимся для страсти.
Для борьбы, страданья, слез!
Нас ли, нас ли вновь связали
Ложью дивных слов и снов?!
Мы стальные цепи рвали.
Нам куют их из… цветов!
Наша жизнь — лишь ветер вольный.
Волны, тучи, ночи жуть!
Братья! нам сверканья молний
Кажут в мраке верный путь.
«Правда — красиво?!»
— Муза, моя Муза! — воскликнул я, невольно пародируя Кольцова. — Неужели, действительно, ты находишь это стихотворение таким красивым? Разберем его хорошенько: четыре раза «нам ли», два раза «нас ли», и кроме того: это ты себя вообразила дочерью бури? Скажи мне: что это за мрачная романтика? Ты, никак, Байрона начиталась?
— Ты и эти мои стихи собираешься порвать? — угрожающе спросила она меня.
— Нет, — обещал я ей, — эти стихи я не порву. На этот раз мы с нею не поссорились.
Однажды, войдя в мою библиотеку, я застал там Музу, роющуюся в книгах русских поэтов, и уже отложившую в сторону А. Блока, Майкова и некоторых других.
— В чем дело. Муза? Что ты ищешь?
— Я ищу все русские переводы замечательного произведения Генриха Гейне: «Песня Лорелей». Их очень много, но ни одно меня не удовлетворяет. Хочешь, напишем теперь мы с тобой вольный перевод этой Песни.
Я согласился.
ПЕСНЯ ЛОРЕЛЕЙ. (Вольный перевод).
Отчего тоскою гложет
Душу, шум речной волны?
Иль забыть она не может
Песню давней старины?
Ветер влажный, ветер нежный
Веет, реет над рекой;
Гаснет свет на белоснежной —
На вершине снеговой.
День погас и солнце скрылось.
Звезды смотрят с высоты;
На утесе появилась
Дева — чудо красоты.
Клубы поднялись седые,
И сырой туман встает;
Гребнем кудри золотые
Дева чешет, и поет.
Песня льется; сердце, млея,
К ней летит, зовет, ведет…
Лорелея, Лорелея,
Лорелея рейнских вод!
Слыша песню, забывает
Об опасности рыбак;
Бросив сети уплывает.
Ей навстречу, в ночь и в мрак.
Об утесы разбивает
Рейн челны рыбарей.
Люди гибнут; распевает
Про любовь им Лорелей.
Люди, переступившие порог своего шестидесятилетия, начинают, изредка, думать о той курносой особе, которая, раньше или позже, но должна их навестить. Эта мысль посетила и меня. «Что ты сидишь такой невеселый, и нахохлился словно мокрая курица?»
Я поднял голову: передо мной стояла моя Муза. Я промолчал.
«Не о смерти ли задумался? Брось! пустая это думушка.»
Процитировала она, с маленьким изменением, Некрасова. Я ей сознался, что, действительно, думал о ней.
«Не хнычь. Старина, я тебе, в нескольких словах, разъясню ее тайну. Садись и пиши».
ТАЙНА СМЕРТИ.
Когда смерть к нам приходит стопою неслышной,
И уносит навеки любимых людей;
Мы взываем к Тебе: О! Всесильный, Всевышний,
Пожалей Ты Своих неразумных детей!
Объясни нам загадку последней разлуки:
Что случилось теперь? и, что будет потом?
Утоли Твоим светом душевные муки.
Дабы мыслить могли мы спокойно о том.
И стремимся, вотще, через бездну незнанья.
Перекинуть, гипотез ошибочных, мост.
Умоляя Творца дать нам свет упованья;
А ответ на вопросы короток и прост:
Мы пришли, чтоб прожить, в этот мир бесконечный.
Небольшое число нам положенных лет.
Сознавая, что смерть только сон… хоть и вечный;
Но и вечность — лишь ночь,… а за нею рассвет.
По моему, моя Муза мне ничего не разъяснила, но мою тоску она все же рассеяла. Слова и только слова, значения которых мы не понимаем; но я искренне посмеялся над попыткой этой дурочки разрешить неразрешимое.
Однако теперь довольно! Пусть моя Муза не обижается, но это стихотворение — последнее, которое я помещаю в моем третьем томе воспоминаний. За будущее я не ручаюсь.
Глава седьмая: После продажи магазина
История моей жизни приближается к концу; но до этого я собираюсь описать еще два, три события, касающиеся или моего Отечества, или лично меня с Саррой. Пусть читающий эти строки простит автора за излишнюю болтливость, и за некоторые повторения: слабость свойственную всем пожилым людям. Кроме того, в этом немного виновата сама жизнь, тоже болтливая и любящая повторяться, старушенка. Итак, дорогой друг-читатель, прошу у тебя еще чуточку терпения: ну, скажем, на пять или шесть других глав.
Ликвидировав наш магазин и мою «доходную» квартиру, у нас с Саррой оказалось много свободного времени, так что мы решили серьезно заняться изучением иврита. Дело оказалось крайне трудным из-за отсутствия хорошего самоучителя; а для хождения, в назначенные дни и часы, слушать, существующие почти при всех синагогах, курсы этого языка, и для приготовления заданных уроков, мы чувствовали себя слишком старыми. Все же, окружив себя имеющимися учебниками, книгами и словарями, мы смело взялись за его изучение. Это занятие заполнило наши досуги, а в погожие дни, не такие уж частые в Париже, мы уходили гулять в Булонский лес.
Так начался для нас этот, вероятно, самый счастливый период нашей жизни, и если бы не постоянные опасения за будущность Израиля, за существование независимого Отечества еврейского народа, опасения которые, порой, нам, буквально, не давали спать, на нашем горизонте не было бы ни одного облачка. С нашей стороны мы старались и стараемся помогать Израилю посильными денежными взносами и пропагандой.
У Меера за эти годы родилось двое детей: дочь Йоэль и сын Давид; а вскоре Меер, со всей своей семьей, эмигрировал в Израиль, и поселился в Беэр-Шеве, где ему дали место инженера-химика. Там же устроилась, по своей специальности, и его жена. Так прошли еще три года.
3 декабря 1971 года мне исполнилось шестьдесят лет. Я хотел бы воскликнуть: «Как быстро пролетели годы!» если бы и до меня не испускали такое же удивленное восклицание многие сотни миллионов людей.
Мне чрезвычайно наскучило, почти в каждой главе, рассказывать о моих визитах в парижскую Префектуру, а если эти повторения так надоели мне самому то, воображаю, каково читателю. Но я не роман сочиняю, а повествую мою быль. Итак, 1 декабря, т. е. за два дня до шестидесятилетней годовщины моего рождения, я, как и во все предыдущие разы, с неприятным чувством, вошел в столь знакомый мне приемный зал Префектуры. В нем уже толпилась и шумела пестрая, космополитная толпа, и как и в прошлый раз, там находились молодые и пригожие чиновницы. Когда настала моя очередь, одна из этих дам вновь выразила мне все то же, коробившее меня, удивление:
— На какие же вы средства живете?
— Мы с женой живем на ее пенсию.
— Но, следовательно, вы лично не имеете никаких средств к существованию?
— Послушайте, мадам, если муж окончил работать, и перешел на пенсию, неужели спрашивают у его жены: на что она живет?
— Так то — муж, а то — жена.
— Я не вижу тут никакой разницы. Во Франции закон уравнял оба пола в правах и обязанностях.
— Все же это странно, и я не знаю, как мне с вами быть.
С этими словами она пошла советоваться со своим прямым начальником восседавшим, в том же зале, за отдельным столом. Выслушав ее, он что-то ей ответил, и они оба громко рассмеялись. Моя зеленая книжка была продлена еще на три года, но я, в который уже раз, почувствовал себя обиженным, и вообще вся эта дурацкая процедура мне сильно надоела. В тот же день, заполнив и подписав анкетный лист прошения о моем переходе на положение «привилегированного» иностранца, я послал его по почте в Префектуру. По прошествии семи месяцев я получил от нее запрос о некоторых, касающихся меня, деталях. Я обрадовался, решив, что это хороший признак, и послал ей, обратной почтой, все требуемые сведения. Прошло еще два месяца, но никакого ответа я не получал. В начале сентября, мы с Саррой отправились в Префектуру, для выяснения положения дел. Нас приняла чиновница, принадлежавшая к старому поколению. Выслушав нас, она достала папку с моим делом, и рассматривая его принялась странно посмеиваться. Мы подошли к ней ближе, желая понять причину этого неуместного веселья, но она довольно грубо прикрикнула на нас, и велела не подходить. Окончив чтение, веселая чиновница объяснила нам, что мы должны ожидать решения о котором, когда найдут это нужным, нас осведомят письменно. Мы вернулись домой с чувством некоторого уныния, отлично понимая, что ответ вряд ли будет положительным. Дома мне пришла в голову мысль посоветовать Сарре написать ее депутату, прося его помочь нам в этом деле.