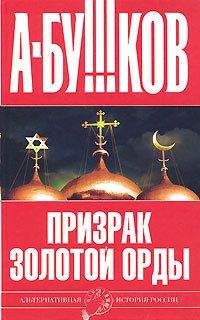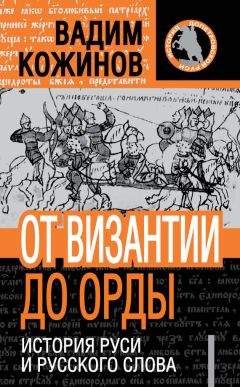Колин Маккалоу - По воле судьбы
— Чем вы недовольны, Карфулен? — спросил он.
— Этой войной. Или лучше сказать, этой не-войной. Никаких сражений, приносящих хотя бы денарий. Я хочу сказать, что в этом заключается смысл солдатской службы. В сражениях. И в наградах, в трофеях. Но до сих пор мы только и делаем, что маршируем, выбиваясь из сил, а потом мерзнем в мокрых палатках и подтягиваем пояса.
— В Длинноволосой Галлии вы делали то же самое. И много лет.
— В том-то все и дело. Мы там хорошо потрудились. Но та война кончилась. Прошло почти два года. А где же триумф? Когда мы будем участвовать в твоем триумфе? Когда нас распустят с туго набитыми кошельками и в придачу выделят небольшой участок хорошей земли?
— Я дал вам слово, что все так и будет. Вы сомневаетесь в моем слове?
Карфулен глубоко вдохнул. Он говорил агрессивно, но держался настороже и был не совсем уверен в себе.
— Да, сомневаемся, генерал.
— По каким же причинам?
— Мы думаем, что ты хочешь обвести нас вокруг пальца. Мы думаем, что ты пытаешься увильнуть от выдачи нам нашей доли. Что ты собираешься увести нас на другой край света, чтобы там и оставить. Эта гражданская война — фарс. Мы не верим, что это настоящая война.
Цезарь вытянул ноги и с равнодушным видом оглядел ступни. Потом поднял голову и в упор посмотрел на Карфулена, тут же съежившегося под его взглядом, на Клоатия, явно мучившегося своей странной ролью, и на Апония, явно желавшего очутиться где-нибудь в другом месте, а затем так же медленно, пристально оглядел остальных.
— А как вы поступите, если я скажу, что через несколько дней вам предстоит марш в Брундизий?
— Очень просто, — сказал Карфулен, вновь обретая уверенность. — Мы никуда не пойдем. Девятый не тронется с места. Мы хотим, чтобы нас распустили. Прямо здесь, в Плаценции, заплатив нам, что положено, и наделив землей близ Вероны. Но сам я хочу, чтобы мне дали землю в Пицене.
— Благодарю, что уделили мне время, Карфулен, Клоатий, Апоний, Мунаций, Консидий, Апиций, Скаптий, Веттий, Минуций, Пусион, — сказал Цезарь, демонстрируя свою феноменальную память. Он не поднялся на ноги, а лишь кивнул: — Вы свободны.
Требоний и Сульпиций, свидетели этого необычного разговора, стояли, не зная, что сказать, и чувствуя приближение жуткого шторма, но даже не пробуя угадать, какую форму он примет. Полный самоконтроль и отсутствие каких-либо эмоций предвещало нечто совсем уж ужасное. Цезарь бывал сердитым, это правда. Но сейчас к его гневу добавилось потрясение. Переживание, какого он не испытывал никогда. Как он с этим справится? Что предпримет?
— Требоний, собери завтра утром девятый. На плацу. И призови туда по первой когорте от остальных легионов, — сказал ровным тоном Цезарь. — Руф, с этим легионом что-то творится, раз уж два его старших центуриона подпали под влияние человека низшего ранга. Возьми наиболее толковых трибунов и вместе с ними прикинь, кому в девятом можно препоручить обязанности pilus prior и primipilus. Клоатий и Апоний дискредитировали себя.
— Гай, — сказал Требоний, — легатам из других легионов тоже надо бы приглядеться к своим парням. Поискать подстрекателей, особенно трущихся возле старших чинов. Я настаиваю на проверке всей армии.
На рассвете пять тысяч с лишним солдат девятого легиона были построены на плацу, к ним присоединились первые когорты семи других легионов, то есть еще четыре тысячи двести солдат. Четко довести свои мысли до каждого из десятитысячной массы людей было для Цезаря совсем нетрудно. Он разработал специальную схему еще в Дальней Испании лет тринадцать назад. Смышленых писарей с громкими голосами расставляли на некотором расстоянии друг от друга в солдатских рядах. Первые писари, стоявшие близко от Цезаря, повторяли за ним его фразы с отставанием всего слова в три. Следующие повторяли то, что услышали, и таким образом сказанное катилось через толпу. Мало какому оратору удалось бы не сбиться в таких обстоятельствах. Громкие повторения усиливались, сливались, не давали сосредоточиться, но Цезарь не испытывал затруднений.
Девятый легион был насторожен, но полон решимости. Цезарь, поднявшись на возвышение, всмотрелся в лица собравшихся и отвлеченно порадовался тому, что его взору доступно каждое из них, даже в задних рядах. Его глаза, слава богам, все еще были зорки. Неожиданно для себя он подумал: а как там со зрением у Помпея? Сулла постепенно стал видеть все хуже и хуже и очень переживал из-за этого. Зрение обычно портится уже в среднем возрасте, и пример тому — Цицерон.
Хотя нередко на таких сборах глаза его увлажнялись, сегодня никаких слез не будет. Он стоял, широко расставив ноги, опустив руки, с corona civica на голове. Алый плащ закреплен на плечах красивой серебряной кирасы. Его легаты стояли по обе стороны от него на возвышении, военные трибуны — двумя группами по обе стороны у возвышения.
— Я здесь, чтобы исправить эту позорную ситуацию, — крикнул он высоким, далеко слышным голосом. — Один из моих легионов замыслил мятеж. Представители других легионов могут видеть его сейчас в полном составе. Это — девятый. Говорю для тех, кто стоит далеко.
Никто не проронил ни слова, никто не удивился. Все обо всем уже знали.
— Девятый легион! Ветеран войны в Длинноволосой Галлии, легион, чьи знамена едва выдерживают вес наград, чей орел бывал десятки раз обвит лавром. Состоящий из солдат, которых я всегда называл моими ребятами. Но они отреклись от меня. Я уже не могу считать их моими. Они — толпа, которую настроили против меня демагоги в масках центурионов. Центурионов! Как назвали бы Тит Пуллон и Луций Ворен, два великолепных центуриона, этих подлых людей, которые заменили их, став во главе девятого легиона? — Цезарь указал на двух стоявших рядом с ним ветеранов. — Видите их, солдаты девятого? Это ваши бывшие боевые товарищи! Косвенно ваш позор лег и на них! Видите их слезы? Они плачут о вас! Но я не могу плакать. Я слишком разгневан, я полон презрения. Мой послужной список непоправимо испорчен. Отныне я никому не смогу заявить, что моя армия идеальна и что никакой смуты в ней не было никогда.
Он не шевельнулся. Руки опущены, прижаты к бокам.
— Парни из других легионов, я позвал вас сюда, чтобы вы стали свидетелями моих действий. Эти бунтовщики объявили, что не двинутся из Плаценции, что они хотят, чтобы их распустили прямо здесь и сейчас. И чтобы им выплатили все, что положено, включая их долю в трофеях девятилетней войны. Что ж, хорошо. Их распустят. Но распустят не с честью! Их доля в трофеях будет поделена между всеми воевавшими в Галлиях легионами. Они не получат земли. Каждый будет лишен гражданства. Вы знаете, что сейчас я — диктатор и что мои полномочия превышают полномочия и консулов, и губернаторов. Но я не Сулла. Я не стану злоупотреблять своей властью, тем более здесь. Я поступлю лишь так, как позволительно поступить любому командующему, чьи войска вздумали бунтовать. Я могу стерпеть многое, даже если от кого-то из вас вдруг потянет духами. Мне плевать, если кто-то подставит кому-нибудь свою задницу, лишь бы тот и другой дрались, как боевые коты! Лишь бы они были мне абсолютно верны! Но солдаты девятого мне не верны. Они мне изменили. Они обвинили меня в намеренном утаивании от них того, что им полагается. Меня! Гая Юлия Цезаря! С которым плечом к плечу провели десять лет! Моего слова для девятого недостаточно! Девятый затеял мятеж!
Его голос окреп. Он закричал. Закричал во весь голос. Этого он никогда себе не позволял.
— Я не потерплю мятежа! Вы слышите? Не потерплю! Мятеж — это худшее преступление для солдата! Мятеж — это государственная измена! И я буду расценивать мятеж девятого легиона как государственную измену! Я лишу его солдат всех их прав, всех положенных им денег и гражданства. И каждого десятого из состава — казню!
Он ждал, пока клерки повторят сказанное. Никто не проронил ни звука, кроме Пуллона и Ворена, которые рыдали. Все смотрели на Цезаря.
— Как вы могли? — крикнул он, повернувшись к девятому. — Вы не представляете, как я благодарю всех римских богов за то, что Квинт Цицерон сейчас не с нами! Впрочем, это и не его легион. Эти люди не могут быть теми героями, которые целый месяц противостояли пятидесятитысячной армии нервиев. Раненые, больные, измотанные, они смотрели, как горят их вещи и провиант, но продолжали бороться с врагом! Нет, это люди другие! Алчные, жалкие, низкие! Я больше не назову их моими ребятами! Я их отвергаю!
Он поджал губы, сделал пренебрежительный жест.
— Не понимаю, как вы могли? Как вы решились поверить каким-то мерзавцам? Чем я это заслужил? Когда вы голодали, разве я ел что-то лучшее? Когда вы мерзли, разве я спал в тепле? Когда вы падали духом, разве я высмеивал вас? Когда вы нуждались во мне, разве я не приходил к вам? Когда я давал вам слово, разве я его нарушал? Что я вам сделал? Что я вам сделал? — Он сжал кулаки. — Кто эти люди, кому вы поверили больше, чем мне? Какими лаврами увиты их головы? Какой героизм они проявили и в каких войнах? Как велики их заслуги? Они вели вас, они пеклись о вас лучше, чем я? Или они платили вам больше? Нет, но, оказывается, вы еще не получили вашей доли от триумфальных трофеев. Их также не получил пока ни один другой легион! Но разве я не оделял вас премиями из моего собственного кошелька! Разве я не удвоил вам жалованье! Задолжал ли я вам в этом смысле хотя бы денарий? Нет! Вы сами знаете, нет! А в гражданской войне на трофеи рассчитывать не приходится. Но разве я не обещал компенсировать вам их отсутствие? Что я вам сделал?