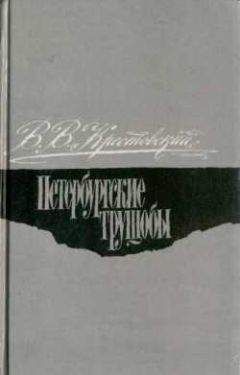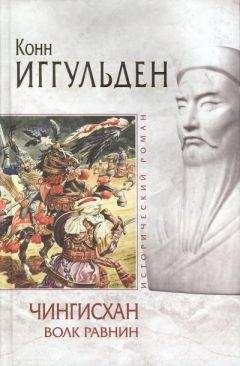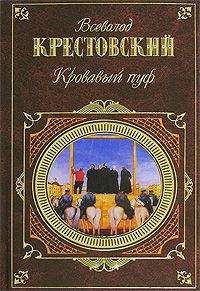Всеволод Крестовский - Петербургские трущобы. Том 1
Результатом последних было то обстоятельство, что Иван Иванович немедленно же приобрел себе, для большего удобства, широкую шинель, схоронил под сюртуком, у самого сердца, пакет с заветными бумагами, а сверток «Колокола» вместе с камнем опустил в очень вместительный карман шинели, и на следующий день, с восьми часов утра, отправился пить чай в одну из харчевен Подъяческой улицы, которая приходилась почти как раз против дома, где жил Бероев. Хотя чаепитие Зеленькова продолжалось очень долгое время, однако он не столько занимался чаем, сколько пристальным глазением в окошко, Иван Иванович делал свои наблюдения. Он переменил чай на пиво, а пиво на селянку, что заняло у него добрых часа два времени, а сам меж тем ни на шаг не отходил от своего стола и частенько продолжал поглядывать на улицу.
В одиннадцатом часу он заметил, что из знакомого дома вышел человек с двумя детьми и сел на извозчика.
Человека этого он видел только впервые, но детей признал тотчас же: это были дети Бероевой, которых Иван Иванович неоднократно встречал во время житья своего в этом доме, когда они выходили гулять вместе с матерью или с Грушей. По детям не трудно было догадаться ему, что незнакомый человек — их отец, Егор Егорович Бероев. Поэтому Зеленьков поспешил расплатиться за все истребленные им пития и снеди и сейчас же направился по знакомой лестнице, в знакомую квартиру. Его встретила Груша.
— Ты одна, Груша?
— Одна.
— А кухарка-то где же?
— На рынок только что вышла.
— А барин дома?
— Никого нет дома, одна, как есть.
— Ну, здорово, коли так… Позволь присесть малость… устал я нынче… ходьбы было много.
И он присел в кухне на табурет, не скидая шинели.
Минут пять прошло в обыкновенной перекидке словами. Иван Иванович начал как будто мяться немного.
— Сам-то… с детьми нешто уехал?.. Куда это? — спросил он.
— А к барыне… видеть она их оченно желала, бедная, он и повез.
— Ну, это дело хорошее. Жаль мне твою барыню, уж так-то жаль!.. Подумаешь, беда какая стряслася… А вот что, Грушенька, — перебил он самого себя, — смерть мне что-то пить хочется… Как бы этак пивка хватить, что ли, стаканчик?.. Ась?.. не возможно ли?
— Отчего ж невозможно? Это — пожалуй…
— Да идти в пивную не хочется: устал я что-то… Будь-ко ты такая хорошая, смахай!.. Вот тебе и денег на пару пива, а я пока посижу — фатеру покараулю.
Груша была очень рада, что может хоть чем-нибудь услужить своему возлюбленному, и потому не заставила повторить его просьбу: мигом накинула на голову платок и побежала. А Иван Иванович тем часом, не теряя ни минуты, шмыгнул в смежную горницу, огляделся, — и видит, что печка тут как нельзя удобнее пришлась ему на помощь для исполнения заказанного дела: благо, взбираться не трудно, потому — рядом с ней умывальный шкафчик стоит. Взобраться на него да положить за карниз железной печи бумаги и камень было делом одной минуты, после чего Иван Иванович, как ни в чем не бывало, вернулся в кухню и стал поджидать прихода Груши с парою пива.
Покалякав с ней минут десять, он простился и пошел, как было назначено, к Александре Пахомовне.
«Ах ты, господи боже мой! — скорбел он, идучи своею дорогою. — И что я за человек-то анафемский!.. Вертят мною, как хотят, а я молчи… Ведь теперь это, значит, барину этому какая ни на есть беда через меня, подлеца, приключится: без того уж и не подослали бы. И за что, подумаешь? Добро бы он худо что сделал мне, изобидел бы, как ни на есть, а то ведь ровно ничего… и не знаю-то я его совсем… Опять же вон намедни убить человека заставили… Э-эх! Нехорошо, Иван Иваныч, нехорошо!.. А что поделаешь? Уж, знать, судьба моя такая: и не желаешь, а варгань… И что это за сила у них надо мною? С чего они заполонили меня? Совесть-то проклятая, поди-ко, измучает теперь! И ничего больше не придумаешь, окромя того, что получить мне теперь с их превосходительства зарабочие деньги да загулять… Ух, как!.. Мертвую с горя запью, право!»
И меж тем Иван Иванович хотя и скорбел в душе своей, а все-таки шел к Сашеньке-матушке с отчетом о благополучно исполненном поручении.
* * *Теперь читатель знает уже наполовину, как все зто случилось. Другую половину замысловатого фокуса взялся исполнить уже новый механик.
Механик этот…
Но нет! — насекомое сие столь достолюбезно, столь достопримечательно и настолько является продуктом петербургской жизни, что автор намерен проштудировать его под микроскопом, в надежде, что любознательный читатель и сам не прочь бы познакомиться (только не в жизни, а по портрету) с этим санкт-петербургским «инсектом»[326]. Для сей цели автор даже начинает отдельную главу, из коей, между прочим, читатель в надлежащем месте окончательно уже уяснит себе вопрос о том, как произошли все описанные нами в предшествовавших главах происшествия, и — смею надеяться — уяснит все сие без всяких комментариев со стороны автора.
Итак, приступаю.
XXXVIII
ОДИН ИЗ ВЕЗДЕСУЩИХ, ВСЕВЕДУЩИХ, ВСЕСЛЫШАЩИХ И Т.Д.
Насекомое это, по родовым и видовым своим признакам, называется… Но нет, опять-таки нет! Автор, право, затрудняется «в настоящее время, когда и проч.», назвать его «настоящим» именем. Историческое происхождение его теряется во мраке веков. Автор не знает, упоминают ли о нем Зороастр и книги «Вед» (надо полагать — да), но Библия, например, дает уже некоторые указания на его существование в библейский период. У римских историков времен упадка тоже находим довольно обстоятельные сведения об этом виде, и затем, чем ближе подходит дело ко временам новейшим, тем все более можно убеждаться в повсеместном его распространении. Можно сказать с большей или меньшей достоверностью, что под всеми меридианами, где только обитает двуногая порода, водятся и виды означенного насекомого. Но чем страна «цивилизованнее», тем более шансов для его существования. В настоящее время наиболее совершенствованный вид его водится во Франции и преимущественно в Париже. Однако опытные исследователи утверждают, что и остальная Европа не обижена на сей счет, так, например, между германскими странами, говорят они, будто бы благословенная Австрия представляет соединение условий, особенно благоприятных для акклиматизации сего насекомого. Одни находят его положительно полезным, другие — положительно вредным; но если бы последние, вследствие какого-нибудь coup d'etat[327], очутились на месте первых, то автор никак не поручится за то, что они тотчас же не примутся за разведение означенного насекомого, подобно тому как разводится шелковичный червь, из видов политико-экономических.
Насекомое это не везде одинаково: оно принимает свои оттенки, качества и большую или меньшую степень развития и совершенства сообразно условиям климата, жизни и обстоятельств какой-либо страны. Русская почва не может похвалиться выработкой вполне удовлетворительного вида сего насекомого, да и слава богу, тем паче, что оно приходит к нам в качестве немецкого товара. По крайней мере, в большинстве случаев это бывает так.
Если бы кто спросил меня, что за человек Эмилий Люцианович Дранг? — я бы ответил просто названием настоящей главы: я бы сказал, что это человек вездесущий, всеведущий, всеслышащий и т.д.
Эмилий Люцианович Дранг (сам он для пущей звучности и громоносности произносил свою фамилию не иначе как Дрранг) — молодой человек лет тридцати двух, одаренный приятною наружностью, а притом надо заметить, что эта наружность — самого независимого свойства. В обществе таких людей обыкновенно называют «приятными во всех отношениях». Эмилий Люцианович белокур, но не то чтобы очень, а так себе, средственно; ростом не высок и не низок, а тоже этак — средственно; носит английский пробор впереди и сзади, что уже служит признаком известного рода фешенебельности, закручивает усы и холит пушистую бороду. По внешнему виду его можно принять за все что угодно, только это «все что угодно» непременно будет «цивилизованное» и «либеральное». Можно его принять и за либерального проприэтера-помещика, и за либерально-отставного военного, а пожалуй, и за либерального литератора, если не за либеральнейшего человека; словом — это наружность, годящаяся для сцены на «цивильные» роли среднего возраста, но никак не на «пейзанские». Одет он всегда благоприлично и даже щеголевато и усвоил себе манеры, вполне соответственные костюму. Происхождение свое скрывает под мраком неизвестности, говоря изредка при случае, что он «сын благородных родителей». Воспитание получил в «каком-то» заведении, где отличался любовью к секретным аудиенциям с начальством, за что неоднократно бывал бит своими товарищами. Ходят слухи, будто служил он в каком-то полку, но, получив за свои приятные качества несколько неприятных прикосновений к физиономии, должен был расстаться с мундиром и избрать другой род общественной деятельности. В настоящее время одни утверждают, будто он служит или числится где-то, другие же утверждают, будто нигде не служит и не числится, а сам Эмилий Люцианович на этот счет ровно ничего не утверждает. Он просто-напросто «пользуется жизнью» и потому «жуирует». Где бы, когда бы и какой бы ни вышел либеральный протест, он всегда становится на сторону протеста и старается вникнуть, в чем тут кроется самая суть дела, какие его нити и пружины и кто вожаки. В нравственном отношении — он атеист, в экономическом — коммунист, в политическом — республиканец, в социальном — поборник «святого труда», женской эмансипации, коммун и артелей и вообще самых радикальных мер и salto mortale. Таковым, по крайней мере, старается он изображать себя при случае, в разговоре, до дела же и до душевной искренности — в Петербурге кому какое дело!.. Приятный, милый человек — и баста.