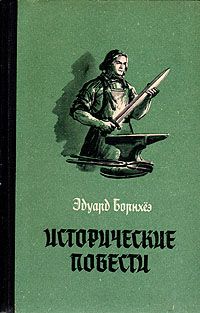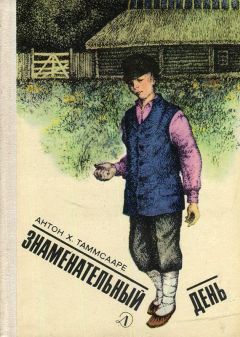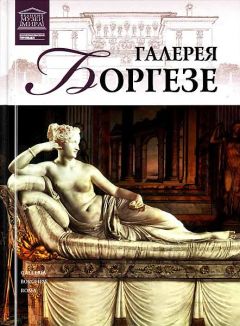Роже дю Гар - Семья Тибо (Том 2)
- Когда между двумя людьми было то, что было между нами, Женни, - это влечение друг к другу, это ожидание, эта безграничная надежда, - тогда пускай пройдут четыре года, десять лет - какое это имеет значение? Такие вещи не стираются... Нет, не стираются, - вдруг повторил он. И добавил тише, будто поверяя ей тайну: - Они только растут, укореняются в нас, а мы этого даже не замечаем!
Она почувствовала, что в ней задето самое сокровенное, словно он дотронулся до больного места, до скрытой раны, о существовании которой она сама едва ли подозревала. Она немного откинула голову и оперлась вытянутой рукой о скамейку, чтобы держаться прямо.
- И вы остались той самой Женни, Женни того лета. Я это чувствую, и я не ошибаюсь. Та же самая! Одинокая, как тогда. - Он запнулся. Несчастливая... как тогда... И я тоже такой, каким был. Одинокий; столь же одинокий, как и прежде... Ах, Женни, два одиноких существования! И вот уже четыре года каждое безнадежно погружается во мрак! Но вот они внезапно обрели друг друга! И теперь они могли бы так хорошо... - На секунду он остановился. Затем с силой продолжал: - Вспомните тот последний день сентября, когда я собрал все свое мужество, чтобы сказать вам, как нынче вечером: "Мне нужно с вами поговорить!" Вы припомнили? Это было поздним утром, мы стояли на берегу Сены, в траве перед нами лежали наши велосипеды... Говорил я, как сейчас. И, как сейчас, вы ничего не отвечали... Но вы все-таки пришли. И слушали меня, как нынче вечером... Я угадывал, что вы готовы согласиться... Глаза у нас были полны слез... И когда я замолчал, мы тут же расстались, не в силах даже взглянуть друг на друга... О, как значительно было это молчание! Как печально! Но то была светлая грусть озаренная надеждой!
На этот раз она сделала резкое движение и выпрямилась.
- Да... - вскричала она, - а через три недели...
Подавленное рыдание заглушило конец фразы. Но бессознательно она пользовалась своим гневом, чтобы хоть как-нибудь скрыть от себя самой охватывающее ее упоение.
Все остатки страха и неуверенности, которые еще оставались у Жака, были сразу сметены этим возгласом упрека, в котором он услышал признание! Могучее чувство радости овладело им.
- Да, Женни, - продолжал он дрожащим голосом, - мне надо объяснить вам и это - мой внезапный отъезд... О, я не хочу выискивать для себя оправданий. Я просто впал в безумие. Но я был так несчастен! Ученье, жизнь в семье, отец... И еще другое...
Он думал о Жиз. Можно ли было уже сегодня... Ему казалось, что он ощупью движется по краю пропасти.
И он тихо повторил:
- И еще другое... Я вам все объясню. Я хочу быть с вами искренним. Совершенно искренним. Это так трудно! Когда говоришь о себе, сколько ни старайся, а всей правды никак не скажешь... Эта постоянная тяга к бегству, эта потребность освободиться, все ломая вокруг себя, - это страшная вещь, это как болезнь... А ведь я всю жизнь только и мечтал о ясности духа, о покое! Мне всегда представляется, будто я становлюсь добычей других людей; и что, если бы я вырвался, если бы мог начать в другом месте, далеко от них, совсем новую жизнь, я бы наконец достиг этой ясности духа! Но выслушайте меня, Женни: теперь я уверен, что если на свете есть кто-нибудь, способный меня излечить, дать мне какую-то прочную основу в жизни... то это - вы!
Во второй раз она повернулась к нему все с той же бурной стремительностью:
- А разве четыре года назад я сумела вас удержать?
У него возникло такое чувство, словно он наткнулся на что-то жесткое, что было в ней, что в ней все еще оставалось. И прежде, даже в те редкие часы, когда между их такими различными натурами начинало, казалось, устанавливаться взаимное понимание, он постоянно натыкался на эту скрытую жесткость.
- Это правда... Но... - Он колебался. - Разрешите мне высказать все, что я думаю: разве тогда вы что-нибудь сделали, чтобы меня удержать?
"Да, уж наверно, - мелькнуло у нее в голове, - я бы постаралась что-нибудь сделать, если бы знала, что он хочет уйти!"
- Поймите, я вовсе не пытаюсь смягчить свою вину! Нет. Я только хочу... (Его полуулыбка, робкий голос как бы заранее просили прощения за то, что он намеревался сказать.) Чего я от вас добился? Столь малого!.. Время от времени какой-нибудь менее суровый взгляд, менее отчужденное, менее сдержанное обращение, иногда какое-нибудь слово, в котором сквозила тень доверия. Вот и все... Зато сколько недомолвок, столкновений, отказов! Ведь правда? Разве я хоть когда-нибудь видел от вас поощрение, способное пересилить те болезненные порывы, которые толкали меня к неизведанному?
Она была слишком честна, чтобы не признать справедливость этого упрека. Настолько, что в данную минуту возможность обвинить самое себя доставила бы ей облегчение. Но он уселся рядом с нею, и она снова приняла замкнутый вид.
- Я вам не сказал еще всей правды...
Он прошептал эти последние слова совсем другим голосом, взволнованно, так серьезно и в то же время так решительно, что она вся затрепетала.
- Как объяснить вам еще одну вещь?.. И все же я не хочу, чтобы сегодня хоть что-нибудь, хоть что-нибудь оставалось скрытым от вас... Тогда в моей жизни был еще и другой человек. Существо нежное, пленительное... Жиз...
Она почувствовала, как острое лезвие вошло в ее сердце. И все же непосредственность этого признания - которого он мог бы не делать - так растрогала ее, что она почти забыла свою боль. Он ничего не скрывал от нее, она могла доверять ему вполне. Ею овладела странная радость. Она инстинктивно почувствовала, что избавление близко, что наконец-то она сможет отказаться от этой противоестественной борьбы с самой собою, которая убивала ее.
А он, когда губы его произнесли имя Жиз, должен был подавить в себе какой-то странный порыв, волну смутной нежности, которая, как он полагал, давно уже улеглась в нем. Это длилось не более секунды: последняя вспышка огня, тлеющего под пеплом, огня, который, быть может, дожидался именно этого вечера, чтобы окончательно погаснуть.
Он продолжал:
- Как объяснить мое чувство к Жиз? Слава все искажают... Влечение, влечение бессознательное, поверхностное, основанное главным образом на воспоминаниях детства... Нет, это еще не все, я не хочу ни от чего отрекаться, я не должен быть несправедливым к тому, что было... Ее присутствие - вот единственное, что радовало меня в нашем доме. Она - натура пленительная, вы сами знаете... Горячее сердечко, готовое любить... Она должна была мне быть как бы сестрой. Но, - продолжал он, и голос его прерывался на каждой новой фразе, - я должен сказать вам правду, Женни: в моем чувстве к ней не было ничего... братского. Ничего... чистого. - Он помолчал, потом совсем тихо добавил: - Это вас я любил братской любовью, чистой любовью. Это вас я любил, как сестру... Как сестру!
В этот вечер подобные воспоминания были до того мучительны, что нервы его не выдержали. К горлу поднялось рыдание, которого он не мог ни предвидеть, ни подавить. Он опустил голову и закрыл лицо руками.
Женни внезапно встала с места и отступила на шаг. Это неожиданное проявление слабости неприятно поразило ее, но в то же время взволновало. И в первый раз задала она себе вопрос - не ошибалась ли она, обвиняя Жака.
Он не видел, что она встала. Когда же заметил, что ее уже нет на скамейке, то подумал, что она ускользает от него, что она хочет уйти. И все же он не сделал ни единого движения, - согнувшись, он продолжал плакать. Быть может, в этот момент он словно раздвоился и полубессознательно, полуковарно пытался извлечь всю возможную выгоду из этих слез?
Она не уходила. Растерянная, стояла она на месте. Скованная своей гордой стыдливостью и в то же время трепеща от нежности и сострадания, она отчаянно боролась сама с собою. Один шаг отделял ее от Жака, и наконец ей удалось сделать этот шаг. Она различала почти у своих колен его склоненную, сжатую руками голову. И тогда она неловким движением протянула руку, и пальцы ее слегка коснулись его плеча, которое внезапно дрогнуло. Прежде чем она успела отшатнуться, он схватил ее руку и удержал девушку перед собой. Он тихонько прижался лбом к ее платью. Это прикосновение обожгло ее. Некий внутренний голос, еле различимый, предупреждал ее в последний раз, что она погружается в опасную пучину, что напрасно она полюбила, напрасно полюбила именно этого человека... Она вся судорожно сжалась, вся напряглась, но не отступила. Со страхом и восторгом приняла она неизбежное, приняла свою судьбу. Теперь ее уже ничто не освободит.
Он потянулся к Женни, словно хотел обнять ее, но удовольствовался тем, что схватил ее руки в черных перчатках. И за эти руки, которые она наконец согласилась отдать ему, он притянул ее к скамейке и заставил сесть.
- Только вы... Только вы способны дать мне то внутреннее умиротворение, которого я никогда не знал и нахожу сегодня подле вас...
"Я тоже, - подумала она, - я тоже..."
- Может быть, кто-нибудь уже говорил вам, что любит вас, - продолжал он глухим голосом, который, однако же (так показалось Женни), был достаточно звучным для того, чтобы дойти до нее, проникнуть в нее и повергнуть ее в неясное и сладостное смятение. - Но я уверен, что никто не сможет принести вам чувство, подобное моему, такое глубокое, такое давнее, такое живучее, несмотря ни на что!