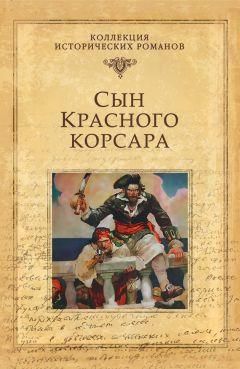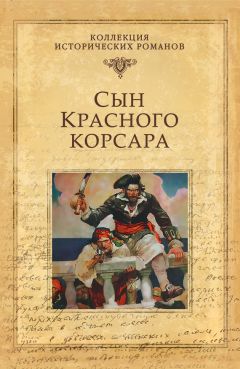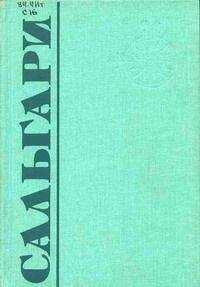А. Сахаров (редактор) - Александр I
Глупым казался ей давешний страх: здесь, в безопасной комнате, страшнее за него, чем в волнах бушующих. Теперь уже не сомневалась, что он вчера не сказал ей всего, утаил самое главное.
Обер-полицеймейстер Гладков доносил государю о том, что происходит в городе.
На Петербургской стороне, на Выборгской и в Коломне, где почти все дома деревянные, – снесены целые улицы. В Галерной гавани вода поднялась до 16 футов и там почти всё разрушено.
Государь слушал, но как будто не слышал.
Через каждые пять минут подходили к нему один за другим флигель-адъютанты, донося о прибыли воды.
Одиннадцать футов два дюйма с половиною. Шесть дюймов. Восемь. Девять. Десять с половиною.
Теперь уже на 2 фута 4 дюйма – выше, чем в 1777 году. Такой воды никогда ещё не было с основания города.
Был третий час пополудни.
– Если ветер продолжится ещё два часа, то город погиб, – сказал кто-то.
Государь услышал, поднял голову, перекрестился, и все – за ним. Наступила тишина, как в комнате умирающего. В стоявшей поодаль толпе дворцовых служителей кто-то всхлипнул.
– Покарал нас Господь за наши грехи!
– Не за ваши, а за мои, – сказал государь тихо, как будто про себя, и опустил ещё ниже голову.
– Lise, вы здесь, а я и не знал, – увидел, наконец, государыню и подошёл к ней. – Что с вами?
– Ничего, устала немного, бегала, искала вас…
– Ну зачем? Какая неосторожность! Везде сквозняки, а вы и так простужены.
Бережно поправил на ней плащ, где-то на бегу накинутый. И от мысли, что он может о ней беспокоиться в такую минуту, она покраснела, как влюблённая девочка.
– Вот какое несчастье, Lise, – проговорил он с такой жалобной, как будто виноватой, улыбкой, которая бывала у него часто во время последней болезни. – Помните, в Писании: страшно впасть в руки Бога живаго…
Хотел сказать ещё что-то, но почувствовал, что всё равно не скажет самого главного, – только повторил шёпотом:
– Страшно впасть в руки Бога живаго.
Кто-то указал на Неву. Все бросились к окнам. Там нёсся плот, а за ним – огромный сельдяной буян,[244] сорванный бурею, – вот-вот настигнет и разобьёт. Люди на плоту одни стояли на коленях, – должно быть, молились; другие, протягивая руки к берегу, звали на помощь.
Государь велел открыть дверь на балкон и вышел. Может быть, погибавшие увидели его. Ему показалось, что сквозь вой урагана он слышит их вопль. Но буян столкнулся с плотом, и люди исчезли в волнах. Государь закрыл лицо руками.
Вернулся в комнату, опять сел, как давеча, согнувшись, сгорбившись, опустив голову. Слёзы текли по лицу его, но он их не чувствовал.
В начале наводнения флигель-адъютант, полковник Герман отправлен был из дворца в Коломну, в казармы гвардейского экипажа, для рассылки лодок. Он провёл весь день в спасенье утопающих. Проезжая по Торговой улице, усталый продрогший и вымокший, вспомнил, что здесь живёт его приятель, князь Одоевский, и заехал к нему напиться чаю. Отдохнув, предложил хозяину и гостю, князю Валерьяну Михайловичу Голицыну, поехать с ним на лодке.
Наступали ранние сумерки; фонарей нельзя было зажечь, и скоро затонувший город погрузился в ночную тьму; казалось, что это последняя ночь, от которой не будет рассвета.
По Офицерской, Крюкову каналу и Галерной выехали на Сенатскую площадь.
Здесь ещё сильнее выла буря, а над белеющей во мраке пеною возвышался памятник: на бронзовом коне гигант с протянутой рукой. И нельзя было понять, что значит это мановенье: укрощает или подымает бурю.
В это же время с другой стороны подъехал катер генерала Бенкендорфа с пылающим факелом. Красные блески, чёрные тени упали на Медного Всадника, и как будто ожил он, задвигался. Гранитное подножие залило водою; чёрная вода, освещённая красным огнём, стала как кровь. И казалось, он скачет по кровавым волнам.
Голицын смотрел в лицо его, и вдруг почудилось ему в шуме волн и в вое бури клики восстания народного.
Вспомнилось, как стоял он здесь, полгода назад, с Пестелем, и, думая о тайном обществе, спрашивал:
– С ним или против него?
И теперь, как тогда, ответа не было.
Но вещий ужас охватил его, как будто всё это уже было когда-то, – было и будет.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
После наводнения сразу начались морозы. Дома, уцелевшие от воды, сделались необитаемыми от холода; промокшие стены обледенели, покрылись инеем, а топить нельзя, печи водою разрушены, и воду нельзя откачивать, – замёрзла. Люди погибали без одежды, без крова, без пищи. А в Неве каждый день подымалась вода, угрожая новым бедствием. Казалось, Самим Богом обречён на гибель злополучный город.
Государь посетил наиболее пострадавшие местности: Коломну, Васильевский остров, Гавань, Чугунный завод.
– Я бывал в кровопролитных сражениях, но это ни чем сравниться не может, – говорил он спутникам.
Зашёл однажды в церковь на Смоленском кладбище. Во всю ширину её стояли гробы с телами утопленников. Он заплакал, и весь народ – с ним.
Учредили комитет для пособия пострадавшим от наводнения. Рассказывали чувствительные анекдоты: о бедной старушке, отказавшейся от шубы при раздаче тёплого белья: «Я свою шубёнку спасла, а мне чулочки пожалуйте»; о добродетельном чиновнике Иванове, хоронившем бедных на свой счёт; о младенце, приплывшем в сахарном ящике к старому холостяку, который взял дитя на воспитание.
А также – анекдоты весёлые: в одном доме окотившаяся кошка перенесла котят на ту именно ступеньку лестницы, где остановилась вода; в подвал Публичной библиотеки заплыл сиг, и библиотекарь Иван Андреевич Крылов поймал его, зажарил и съел; приезжий барин думал, что сошёл с ума, когда, встав поутру, увидел полицеймейстера Чихачёва,[245] плывущего в лодке по двору; а графиня Толстая так рассердилась за наводненье на Петра I, что, проезжая мимо памятника его, высунула язык.
Цензурой запрещено было печатать о наводнении что бы то ни было, и в Москве уверяли, что вода поднялась выше Адмиралтейского шпица. В простом народе шли толки, что Божий гнев постиг столицу за военные поселения и зверства помещиков.
О. Феодосии Левицкий проповедовал, что наводнение – «не простое и слепое следствие натуры, но, собственно, удар праведного суда Божия, воздающего нам по делам нашим, поелику не видно со стороны правительства ни малого движения к покаянию». Два фельдъегеря явились ночью к о. Федосу, усадили его в тележку и увезли неизвестно куда: оказалось потом – в Коневец на Ладожском озере.
Наконец Нева стала. Там, где бушевали волны потопа, белело теперь снежное поле, скрипели возы, на коньках бегали дети, плясали на морозе, ударяя валенком о валенок, весёлый сбитенщик, и чухны с кудластыми клячами везли с прорубей колотый лёд, сверкавший на солнце прозрачно-зелёными глыбами.
Намело сугробы по улицам; дребезжанье дрожек сменилось беззвучным бегом саней, и всё вдруг затихло, заглохло, замерло, только снег хрустел под ногами прохожих и голоса раздавались на улице, как в комнате.
Петербург стал похож на глухую деревню, занесённую вьюгами. Уснул, как дитя в колыбели под белым пологом; как мертвец в могиле под белым саваном. И тишина колыбельно-могильная сладко-жутко баюкала.
Государыня была больна: как простудилась во время наводнения, так и не смогла поправиться. Доктора опасались чахотки. «Та же болезнь, что у Софьи, – думал государь. – Две загнанных лошади; одна пала, и другая падёт».
Он проводил с нею целые дни. Доктора запретили ей говорить: от разговора кашляла. Говорил он, а она писала ответы.
Разговор о тайном обществе, в тот вечер накануне наводнения прерванный, не возобновлялся у них. Но когда она смотрела на него глазами загнанной лошади, он знал, о чём она думает. И оба молчали. Тихо в комнате, тихо на улице – тишина колыбельно-могильная.
Он оставил все дела: они казались ему ничтожными, как будто во время наводнения понял он бессилье власти. Той страшной смертной лени, с которой прежде боролся, предался теперь окончательно; похож был на пловца изнеможённого, уносимого течением к омуту.
Новому министру народного просвещения, Александру Семёновичу Шишкову[246] – за восемьдесят. Сед, как лунь, лицо мёртвенно-бледное, глаза впалые; голова трясётся; жуёт губами, шамкает. Однажды, явившись к государю с докладом, не мог отпереть портфель, – так дрожали руки от слабости. Государь помог ему, вынул бумаги и прочёл их сам.
Шишков был изувер в политике. Сочинённый им цензорный устав называли «чугунным», его самого – «гасильником», а министерство просвещения – «министерством затмения».
Доклады его были сплошными доносами.
– Так называемый дух времени есть дух безбожья, дух революции, дух, истребленьем и убийствами дышащий, от коего гибнет власть, умолкает закон, потрясаются престолы и кровавое буйство свирепствует. Опасность сия ужаснее пожара и потопа…