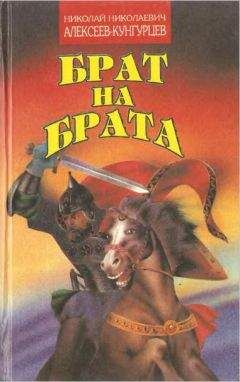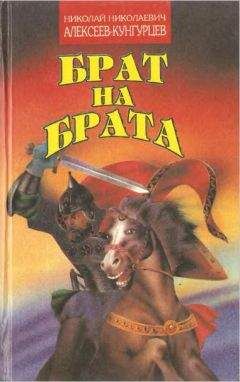Николай Алексеев-Кунгурцев - Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск.
«Что же делать? Что же делать? Вести войска на хана? Но они, изменники, предадут меня, и войско! Меня ждет верная гибель, а коли меня, так и все царство… Нет! Надо уйти отсюда скорее, бежать! Пусть на их главу падет и кровь пролитая, и разорение родной земли! Бежать, бежать немедля отсюда!»
— Василий! — говорит, под влиянием этих мыслей, Иоанн Темкину, — вели в путь снаряжаться… Я отъезжаю отселе в Слободу, либо в Коломну, либо в иное место… Меня хотят погубить изменники… Я хотел спасти Русь, они мне не дали этого сделать. Не моя вина! Ты с опричиной пристань к воеводам да присматривай за ними, я же удалюсь: бояре заварили кашу — пусть и расхлебывают. Иди же, прикажи готовиться к пути!
Темкин поспешно бросился исполнять царский приказ, а Иоанн, снедаемый ужасом и тоской, метался по комнате. Приказ царя был быстро исполнен, и Иоанн, покинув Серпухов, отправился сперва в Коломну; потом, минуя Москву, в Слободу, там дальше, к Ярославлю… Ему казалось, что враги гонятся за ним по пятам. Он уже не думал о спасении государства и желал одного, как можно дальше удалиться от Москвы, где все, казалось ему, было полно изменой.
Как не похож был этот трепещущий от страха беглец на этого человека, который печально склонялся над постелью больной жены, на того героя, который с опасностью жизни боролся со страшным московским пожаром в 1560 году, чтобы спасти жизнь нескольких десятков своих подданных. Теперь он бежал, оставя в жертву врагу город без войска, без главы, на грабеж и на сожжение. Жертвуя тогда своею жизнью ради спасения немногих людей, он теперь без колебания обрекал на смерть от рук врагов или пожара сотни тысяч их, боясь рискнуть своею безопасностью. За истекшие годы царь изменился и физически не менее, чем духовно. Кто бы узнал в почти лысом, исхудалом и согбенном человеке того красавца, прямого, как тополь, широкоплечего и здорового. Царя состарили не годы, он еще и теперь не был стар летами, его иссушили не заботы о благе государства и подданных, а тот внутренний огонь, который жег его со дня смерти первой супруги. Уже много лет Иоанн ни днем, ни ночью не знает, ни минуты покоя — вечно тревога в душе, либо боязнь, либо гнев, либо раскаяние.
Когда царь уехал из Серпухова, Москва осталась совершенно беззащитной: войска стояли на берегах Оки, хан между тем приближался. Со всех сторон стекались в столицу, ища спасения, жители окрестных деревень: им казалось, что Москва недоступна для вторгшихся татар. Можно думать, какой ужас объял несчастных москвичей, когда они узнали, что царь удалился, что войска вблизи нет, а татары приближаются.
Но еще не настала для них минута отчаяния! Пока еще могла в их сердце зародиться надежда, потому что войска спешили на ее защиту. 23-го мая, накануне Вознесения, москвичи увидели и приветствовали радостными кликами подходящие русские войска.
«Спасены», — думали москвичи, крепко веря в стойкость и храбрость ратников. Русские войска заняли московские предместья.
С трепетом стали ждать следующего дня: татары были близко!
IV. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ
Настало 24-е мая 1571 года, день Вознесения.
Было ясное весеннее утро. Несмотря на то, что солнце еще только взошло, в переполненном народом городе и в предместьях царило оживление. Слышались крики, плач женщин и детей. Войска готовились к бою и расположились таким образом: большой полк, под командой Вельского и Мороза, занял Варламовскую улицу, Мстиславский и Шереметев со своим отрядом стали на Якимовской, Воротынский, в войске которого находился и Данило Андреевич Ногтев, вместе с Миколкой-выкрестом, Прошкой и другими своими холопями, поместился на Таганском лугу, Темкин с опричниками — за Неглинной. Почему воеводы предпочли биться с врагами не в открытом поле, а среди тесных улиц, хотели ли они тем разделить силы татарские, зная, что татары любят действовать массой и тогда с ними трудно справляться, или думали, что за домами будет легче защищаться — неизвестно. Чем бы ни руководствовались вожди, им, конечно, и в голову не приходило, что они этим погубят город, как это показало будущее.
Татары подходили к Москве. Они уже были видны из города.
Данило Андреевич не ошибся, написав жене, что «идут татары во множестве великом». Действительно, кажись, со времен Тохтамыша не было на Руси такой огромной татарской рати, какую вел теперь Давлет-Гирей.
Лихо скачут молодые татары, сидя на сухих жилистых конях. Любо молодым витязям, что они впервые в поход отправились, а теперь на их долю выпало счастье подступить к Москве, самому сердцу Московии, некогда столь страшной, из недр которой, как стая соколов, налетали удальцы на их улусы. Теперь они сами идут на бой с этими шайтанами-урусами! О, ныне настало иное время! Пришла пора отомстить ненавистным врагам за все вынесенное от них, сторицей воздать за погибших от рук урусов татарских жен и матерей, за увезенных в далекую чужбину пленников. И они отомстят!
Медленно едут на крепких конях бывалые бойцы, осанисто держась в седле. Хочется им показать молодежи, что поход для них не диковинка, бывали они во всяких, хаживали и на Русь, и на Польшу, не привыкать стать.
Однако на самом деле и они далеко не так спокойны, как показывают: ведь перед ними не какой-нибудь незначительный пограничный городишко, а сама Москва, та самая, о которой урусы песни поют и славят ее на всякие лады. Добираться до Москвы, да еще с такой силою, как теперь у хана, не каждый день случается. Ведь если они ее возьмут, то какой праздник им тогда будет! Кроме добычи, сколько получат они наград да поместий в покоренных землях урусов. Пленительные картины рисует им воображение, и замирает сердце их от восторга.
Спокойнее всех кажется сам виновник похода, хан Давлет-Гирей. Величаво сидит он на коне золотистой масти, чуть играя поводьями.
Давлет-Гирей спокоен на вид, но лицо его бледнее обыкновенного, и в глазах порой, словно видна тревога. Да и есть ему чего тревожиться! Удастся взять город — Московия почти его или, по крайней мере, Казань и Астрахань должен будет ему уступить Иоанн. Тогда снова под властью одного повелителя сольются воедино разрозненные татарские царства, и возродится падающее могущество татар. Ну, а если постигнет неудача, тогда погибнет весь цвет ханского воинства, Крым останется беззащитным и долго не оправится от такого удара.
Как ни искусно скрывает Давлет-Гирей свое волнение, но видно, что не все обмануты его спокойным видом. Вон какой-то мурза уже давно наблюдает за ним и, кажется, понимает ханскую тревогу.
Красив этот мурза и мало похож на татарина — облик не тот. Даром, что голова его гладко выбрита, что на нем надето дорогое, расшитое золотом, татарское платье — всякий готов был бы голову позакладывать, что в жилах этого мурзы течет не татарская кровь. Слишком бело его лицо и не скуласто, слишком густа и окладиста борода для татарина. Глаза разве одни похожи, так и то не совсем. По всему видно, что это не татарин, а либо пленник русский какой-нибудь, еще мальчиком малым в полон взятый и обращенный в магометанскую веру, либо отступник, по доброй воле веру сменивший.
Этот мурза, действительно, был русский по происхождению и ни кто иной, как бывший князь Андрей Михайлович Бахметов, вместе с ханом, идущий теперь походом на землю родную.
Если этот татарский мурза еще наружностью много похож на бывшего русского князя, но зато ни в чем ином не осталось и тени сходства между нынешним Алеем Бахметом и прежним Андреем Бахметовым.
Предавшись татарам, долго работал над собой князь Андрей Михайлович, чтобы выработать из себя истого мусульманина, и после многих усилий достиг своей цели: сердце его уже было глухо к воплям избиваемых христиан, все, что прежде он любил, стало ему ненавистным. Когда хан объявил поход на Русь, он радостно приветствовал это сообщение. Сердце его не сжалось болью при мысли, что ведь идут избивать его несчастных братьев: у правоверного мурзы Алея не было ничего общего с гяурами-урусами. И теперь, когда конь его ступал по родной Бахметову земле, когда уже виднелась Москва, облитая солнцем, сверкающая золотыми маковками церквей, сердце его не проснулось, он оставался по-прежнему холодным и равнодушным ко всему этому. Напротив того, в голове его созревал ужасный замысел, исполнение которого принесло бы сотни тысяч смертей его бывшим соотечественникам.
Алей Бахмет уже давно видел тревогу хана и понимал, отчего она происходит. Ему захотелось предложить Давлет-Гирею свой замысел, и он подъехал к нему.
— Повелитель, — начал он, приложив по восточному обычаю руку к голове и сердцу, — я вижу заботу на твоем лице.
Давлет-Гирей не отвечал и слегка нахмурил свои брови: ему показалось, что мурза Алей слишком смело себя держал с ним.
— И знаю причину твоей тревоги, — добавил Алей-Бахмет, нимало не смущаясь строгим видом хана.