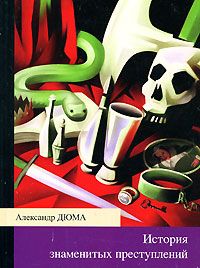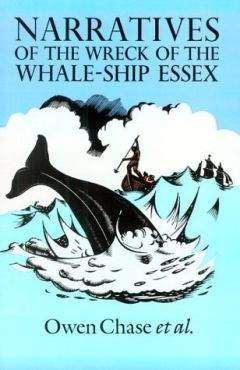Александр Дюма - Карл Людвиг Занд
– Что ж, до сих пор Бог давал мне силы.
Директор тюрьмы и первые должностные лица города помогли ему взойти по лестнице. При этом он согнулся от боли, но, поднявшись на эшафот, выпрямился и промолвил:
– Значит, здесь я умру…
Прежде чем опуститься на скамью, на которой его должны были обезглавить, Занд взглянул на Мангейм, потом обвел взором бесчисленную толпу, окружающую эшафот; в этот миг солнечный луч прорвался сквозь тучи. Занд улыбнулся ему и сел.
Так как в соответствии с полученными распоряжениями Занду должны были вторично зачитать приговор, его спросили, достаточно ли крепким он себя чувствует и сможет ли выслушать его стоя. Занд ответил, что попробует и ежели у него не хватит физических сил, то, надеется, душевных ему достанет. Он встал, но попросил г-на Г. быть рядом и поддерживать его, если он вдруг пошатнется. Предосторожность эта оказалась излишней: Занд твердо стоял на ногах.
Когда дочитали приговор, он снова сел и громко произнес:
– В свой смертный час поручаю себя Богу…
Но г-н Г. прервал его:
– Занд, вы же обещали…
– Да, верно, – ответил он, – я совсем забыл.
Он не стал обращаться к народу, но все же, торжественно подняв правую руку, негромко, чтобы слышали только те, кто был рядом, промолвил:
– Беру Господа в свидетели, что умираю за свободу Германии.
Произнося это, он через цепь солдат бросил в толпу, точь-в-точь как Конрадин[17] перчатку, скрученный носовой платок.
К нему приблизился палач, чтобы остричь волосы, и поначалу Занд воспротивился, но г-н Видеман ему объяснил:
– Это для вашей матушки.
– Слово чести, сударь? – осведомился Занд.
– Слово чести.
– В таком случае стригите, – разрешил Занд.
Ему остригли всего несколько прядей, причем только на затылке, а остальные волосы завязали лентой на макушке. Затем палач связал ему руки на груди, но в этом положении Занду было трудно дышать, кроме того, у него заболела рана, и он невольно опустил голову; тогда ему велели положить руки на бедра и там скрепили их веревками. Когда же ему стали завязывать глаза, он попросил г-на Видемана так наложить повязку, чтобы он до последнего мгновенья мог видеть свет. Эта просьба была исполнена.
В этот миг глубокая, мертвая тишина объяла всю толпу, стоявшую вокруг эшафота. Палач выхватил меч, сверкнувший, как молния, и нанес удар. Чудовищный крик вырвался из двадцати тысяч грудей: голова не упала, она только склонилась на грудь, держась на недорубленном горле. Палач снова взмахнул мечом и на сей раз отрубил вместе с головой часть плеча.
В ту же секунду цепь солдат была прорвана, мужчины и женщины бросились к эшафоту и вытерли всю кровь до последней капли своими носовыми платками; скамью, на которой сидел Занд, разломали в щепки и разделили их между собой; те же, кому их не досталось, отрезали кусочки окровавленных досок эшафота.
Тело и голову казненного положили в задрапированный черным гроб и под сильным военным эскортом доставили в тюрьму. В полночь труп Занда тайно, без факелов и без свечей, перевезли на протестантское кладбище, где за год и два месяца до этого был погребен Коцебу. Тихо вырыли могилу, опустили в нее гроб, и все присутствовавшие при погребении поклялись на Евангелии не открывать места, где похоронен Занд, пока их не освободят от этой клятвы. На могилу уложили предусмотрительно снятый дерн, чтобы не было видно свежей земли, после чего ночные могильщики разошлись, оставив у входа караул.
И вот так на расстоянии шагов двадцати друг от друга покоятся Занд и Коцебу. Коцебу – напротив ворот, на самом видном месте кладбища под надгробием, на котором выбита следующая надпись:
Мир безжалостно преследовал его,
клевета избрала его мишенью,
счастье он обретал лишь в объятиях жены,
а покой обрел лишь в смерти.
Зависть устилала путь его шипами,
Любовь – расцветшими розами.
Да простит его небо,
как он простил землю.
Могилу Занда надо искать напротив этого помпезного монумента, воздвигнутого, как мы уже говорили, на самом видном месте – в дальнем углу кладбища слева от ворот; над ней никакой надписи и растет только дикая слива, с которой каждый посетитель срывает на память несколько листков.
А луг, где был казнен Занд, еще и сейчас в народе называется Sand Himmelfartswiese, что переводится как Луг, где Занд вознесся на небо.
В конце сентября 1838 года мы были в Мангейме, куда я приехал на три дня, чтобы собрать все возможные сведения о жизни и смерти Карла Людвига Занда. Однако и после этих трех дней сведения, собранные мною, невзирая на всю энергичность розысков, оставались далеко не полными, то ли потому, что я обращался не к тем, к кому следовало, то ли потому, что я, как иностранец, внушал определенное недоверие людям, к которым обращался. Мангейм я покидал достаточно разочарованный и после посещения протестантского кладбища, где в двух десятках шагов друг от друга похоронены Занд и Коцебу, велел вознице ехать в Гейдельберг; проехав несколько шагов, возница, знавший цель моих разысканий, сам остановил экипаж и поинтересовался, не хочу ли я посмотреть то место, где был казнен Занд. И он указал мне на невысокий пригорок на лугу в нескольких шагах от ручья. Я, разумеется, тут же выразил согласие и, хотя возница вместе с моими спутниками остался в экипаже, сам нашел это место по лежащим там на земле веткам кипариса, цветам бессмертника и незабудок.
Можно легко понять, что осмотр места казни не только не умалил, но, напротив, усилил мое желание добыть какие-нибудь сведения. Я пребывал в самом скверном настроении, оттого что уезжаю, так почти ничего и не узнав, и тут обратил вдруг внимание на человека на пятом десятке, который прогуливался неподалеку и, подозревая причину, привлекшую меня сюда, с любопытством на меня поглядывал. Я решил предпринять последнюю попытку, подошел к нему и обратился:
– Сударь, ради Бога, простите, но я иностранец, путешествую на предмет собирания богатейших поэтических традиций вашей страны. По тому, как вы на меня смотрели, мне кажется, вы знали того, кто привлек меня на этот луг. Не могли бы вы мне что-нибудь рассказать о жизни и смерти Занда?
– А с какой целью, сударь? – поинтересовался на почти понятном французском мой собеседник.
– Уверяю вас, сударь, с самой что ни есть немецкой, – отвечал я. – Как ни мало я узнал про Занда, он для меня стал одной из тех теней, которые слишком значительны и поэтичны, чтобы драпировать их в запятнанный кровью саван. Но во Франции его совершенно не знают, а ведь его можно сравнить с Фиески[18], и я хотел бы, насколько это в моих силах, просветить своих соотечественников.
– Я с превеликим удовольствием, сударь, поспособствовал бы вам в вашем начинании, но вся беда в том, что я едва говорю по-французски, вы же почти не говорите по-немецки, так что нам будет трудно понять друг друга.
– О, если дело только в этом, – возразил я, – то в моем экипаже сидит переводчик, верней, переводчица, которая говорит по-немецки, как Гете, и вы, надеюсь, будете довольны ею; держу пари, она поймет все, что вы скажете.
– Тогда идемте, сударь, – ответил мне мой собеседник. – Я буду очень рад, если смогу оказать вам услугу.
Мы направились к экипажу, ждавшему нас на дороге, и я представил своей спутнице нового своего знакомого. После обычных поклонов между ними начался разговор на чистейшем саксонском диалекте[19].
И хотя я ни слова не понимал из того, что говорилось, по стремительности вопросов и пространности ответов было видно, что беседа завязалась весьма интересная. Наконец, примерно через полчаса я, желая знать, до чего дошли собеседники, бросил:
– Ну и что?
– Тебе везет, – ответила моя переводчица, – ты попал в самую точку.
– Этот господин знал Занда?
– Этот господин – Г., директор тюрьмы, в которой был заключен Занд.
– Да что ты!
– Он виделся с Зандом ежедневно в течение девяти месяцев, то есть с того самого момента, как его перевели из госпиталя.
– Превосходно!
– Но это еще не все: этот господин был с ним в коляске, которая везла его на казнь, и даже поднялся с ним на эшафот. В целом Мангейме имеется единственный портрет Занда, и именно у него в доме.
Я с восторгом впивал каждое слово: алхимик мысли, я открыл тигель и обнаружил в нем золото.
– Спроси у него, – живо попросил я, – не будет ли он против, если мы запишем то, что он нам расскажет.
Переводчица задала ему этот вопрос и сообщила мне:
– Он согласен.
Г-н Г. сел к нам в коляску, и, вместо того чтобы отправиться в Гейдельберг, мы возвратились в Мангейм и вышли у тюрьмы.
Г-н. Г. был сама любезность. С величайшей предупредительностью, с бесконечным терпением он вспоминал всевозможные подробности, став для меня чем-то наподобие чичероне, а когда он исчерпал все воспоминания о Занде, я спросил, как происходила казнь.