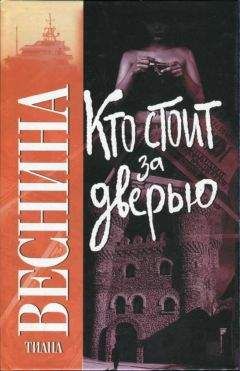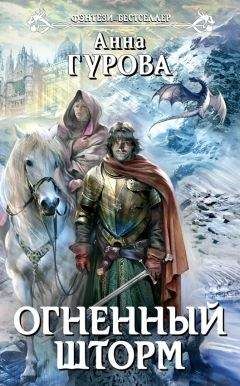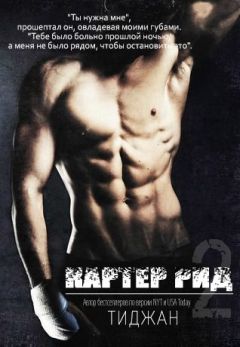Юрий Плашевский - Огненный стрежень
И тут же раздались в голове царя слова — явственно необычайно, будто кто сзади сказал ему громко в самое ухо:
— Как кричит этот человек!..
Голос был нагл, но оборачиваться царь не стал, потому что знал твердо, что сказано это было не здесь и не сейчас. Двадцать лет назад, в мартовскую промозглую ночь, в угловой комнате Михайловского замка, в Петербурге, в колеблющемся пламени свеч произнесены они были. Барабаня по стеклу пальцами, в нетерпении, презрительно кривя пухлые губки, выговорил это князь Платон, бабкин последний любимец, пока сзади в сумятице, в толпе навалившихся заговорщиков брат его, Николай Зубов, проламывал батюшке бедному Павлу Петровичу той табакеркой голову.
Той или этой? В изнеможении царь Александр еле перевел дух. Мысли вихрем проносились в уме его бессвязно.
Но та — после смерти Николая Зубова — заперта накрепко в дворцовом Эрмитаже. Царь Александр знал о том. Тогда откуда эта? Наваждение?
Непослушной рукой поднес он платок к глазам. И в краткое это мгновение вызвал царь Александр у Каипа — ибо то был Каип в своем майорском мундире — ярко в памяти образ беркута, которого предлагал давеча ему хивинец — с колпаком на глазах, обреченного, рокового и жалкого. Каип видел взгляд, брошенный императором на табакерку, и заметил вызванный ею ужас, и волнение, и бледность. Он понял, что происходило в душе царя Александра, потому что о делах, сопутствовавших смерти царя Павла, ему было известно.
В тот же миг государя будто осенило. Он вспомнил, что табакерок, похожих одна на другую, как две капли воды, — с самого начала было две. Пару их привез из Парижа для бабки Екатерины придворный ее ювелир.
От нее перешли они к братьям Николаю и Платону. Одна, коснувшись императорского виска, успокоилась в коллекции Эрмитажной.
Другая — от Платона-князя — к кайсаку, значит, этому попала, был у старшего Зубова в адъютантах.
И он, привыкнув уже давно почитать все с ним случающееся за руку провидения, решил бесповоротно и сразу же, что явление ему массивной, простой, но с необыкновенным изяществом сработанной неизвестным мастером табакерки — тоже знамение и перст. Даже предупреждение. Именно в эти краткие минуты легла на него тень, которой, как согласны многие, отмечен был лик Александра Благословенного в последний год его царствования.
В тот миг, однако, император оправился довольно быстро, хоть день для него уже совершенно померк. Минуту иль две продолжалось всего лишь его замешательство. И никто из бывших в зале ничего не понял, кроме двух человек, — майора гвардии Каипа да графа, царского приближенного.
Затягивать, правда, аудиенцию царь не стал и скоро ушел, распростившись с обществом в белом зале с изящностью необыкновенной, всегда отличавшей, впрочем, все действия сего монарха.
И до конца дней своих — которых, как потом выяснилось, оставалось не так уж много, — сохранил царь жестокую память о том, что впервые трубы, призывающие на суд, прозвучали ему на краю света, в пределах киргиз-кайсацких, там, где впервые прикоснулся он изменчивым сердцем своим к востоку, к степям и сынам и дочерям их. И ужас, объявший душу его покровом хладным, навек сочетался в нем с точеным ликом степного майора, с пальцами его, сжимавшими роковую драгоценность, со смуглыми ручками ханши и с черными ее глазами, устремленными на него.
Покидал государь Оренбург на следующий день рано утром. Нежарко было, просторно и прохладно. Лошади резво бежали по хорошей дороге, пыль которой была прибита предутренним кратким дождем. Покойно, быстро катилась царская коляска. Поблескивали спицы, ликированные крылья прочих колясок, поспешавших следом. Прыгали султаны, сверкали эполеты всадников.
А город все отодвигался назад и скоро скрылся за грядою бурых, осенних уже, выгоревших на солнце холмов.
ЧАЙ
I
Однажды вечером, поздней осенью 1881 года, на небольшой почтовой станции по тракту, что тянется вдоль правого берега Иртыша от Омска к югу на Павлодар и далее на Семипалатинск, в чистой горнице для проезжающих сидел высокий худощавый киргиз.
Киргиз был в черном бархатном чапане без украшений и вышивки, довольно длинном, ниже колен. Из-под халата выглядывал темно-малиновый камзол, а на черных подстриженных волосах красовалась небольшая, плотная, часто простроченная тюбетейка синего бархата.
Киргиз спросил у тучного татарина, державшего на станции буфет, самовар. Тот коротко распорядился, и русская девка в розовом ситцевом платье, в накинутом на плечи заячьем тулупчике внесла через сени с широкого крыльца кипящий самовар и поставила на стол у окошка.
Затем девка вышла, а киргиз поднял с пола объемистый баул желтой кожи с большой прочной ручкой, с затейливым желтым блестящим замочком. Предмет был щегольского, необычного вида, чем объяснялись любопытные взгляды, которые изредка бросал на него из-за стойки с напитками и разной снедью черный татарин.
Открыв баул, киргиз достал из него пузатую стеклянную чайницу прохладного сиренево-зеленого цвета, отвинтил серебристую крышку, заботливо отсыпал в горсть большую порцию чаю и заварил его в фарфоровом чайнике. Затем чайник был водружен на самоварную конфорку, и киргиз, отвернув бритое смуглое лицо к окошку, где была уже осенняя тьма, принялся ждать, покуда настоится чай.
Движения все его были плавны и отличались неторопливостью. Он явно внушал к себе уважение, что было заметно по осторожным взглядам татарина-буфетчика, который, понимая свое место перед таким постояльцем, на глаза не лез, а лишь ожидал распоряжений.
Последних, впрочем, было не так уж много. Кроме самовара киргиз спросил еще сливочного масла и баурсаков, предварительно получив заверение в том, что они безусловно свежи. Сахар у него был свой, в металлической, красными цветами расписанной коробочке, и тоже, кажется, отменный.
Видно было, что обстоятельные приготовления к чаепитию, равно как и предвкушение его, доставляли киргизу истинное удовольствие.
Время и место, надо сказать, весьма располагали насладиться тем превосходным напитком, который настаивался на конфорке самовара. В горнице было тепло и тихо. Под потолком горела большая керосиновая лампа. Кроме хозяина-татарина и небольшой компании озябших возниц в дальнем углу, никого более в помещении не было. За окном же разгуливалась осенняя непогода, слышно было, как шумел порывистый ветер. Вечерний сумрак сгущался все более и наконец перешел в ночную темень.
Киргиз взял фарфоровый чайник и медленно стал цедить из носика его темную пахучую жидкость в большую позолоченную фарфоровую чашку.
В это время за окном послышались стук подъезжающей повозки, топот, шлепанье лошадиных копыт. Через минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел новый проезжающий.
II
Появление его было, казалось бы, событием весьма заурядным: проезжающие по тракту сновали здесь и в одну и в другую сторону довольно часто. Однако достаточно ему было войти, как впечатление тихого, несколько сонного уюта сразу исчезло. Вместе со струей холодного воздуха, сопровождавшей незнакомца, в комнату проникло ощущение тревоги.
Он вошел и сделал общий поклон. Буфетчик-татарин поспешил ему навстречу и тут же провел в особую комнату, где, как говорилось в правилах для почтовых станций, господа приезжающие имели возможность оставить вещи, раздеться и совершить необходимый туалет.
Во время его непродолжительного отсутствия киргиз приказал возвратившемуся буфетчику подать в дополнение к своей чашке еще один чайный прибор. Когда же новый проезжающий, уже без пальто и шляпы, умывшись, вновь появился в горнице, киргиз поднялся от самовара и приветливо пригласил его разделить с ним вечерний чай. Тот поклонился и сел к столу.
Теперь все находившиеся в горнице могли наконец рассмотреть его, причем, надо сказать, возбудил он у присутствующих любопытство к себе далеко неодинаковое, да и впечатление произвел разное. Ямщики в углу вообще взглянули на него бегло, сразу определив его для себя как барина, то есть интеллигента, и, следовательно, тут же перестав им интересоваться. Буфетчик-татарин подошел к этому вопросу более профессионально. Он отметил хорошего покроя и хорошего сукна черный костюм, который, правда, был сильно поношен.
Киргиз же у своего самовара, заметив все то, что бросалось в глаза многоопытному буфетчику, увидел, однако, и другое, сочтенное им за предмет куда более важный, чем все остальное. Он увидел длинные русые волосы, закинутые назад, и серые, ушедшие в себя, глаза, над которыми возвышался большой бледный лоб. Впрочем, не только лицо, но и руки молодого человека тоже были бледны. Чувствовалось, что это не от нездоровья, а скорее от усталости — как телесной, так и душевной, от непрерывного и длительного напряжения.
— Разрешите налить вам, — обратился он к молодому человеку, прерывая свои наблюдения.