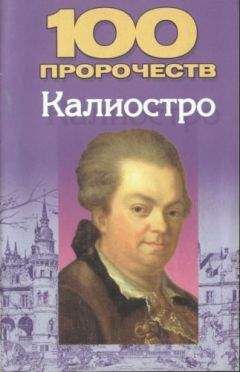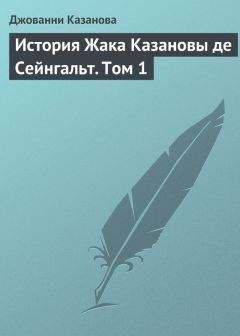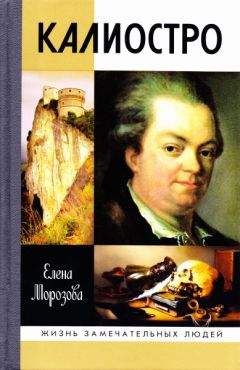Ёжи Журек - Казанова
В пути
Лошади ждали во дворе. То ли смеяться, то ли опять дать кому-нибудь по роже! Две тощие клячи, одна запряженная в телегу, вторая — для него — под седлом. Возница в тулупе и меховой шапке, несмотря на не по-осеннему теплый день, курил какое-то вонючее зелье. В луже вповалку лежали разомлевшие поросята. Толстый батрак ставил упавший забор, латая ветками дыры. Можно ехать.
Мальчик сошел вниз сам, но был слишком слаб, чтобы сидеть на козлах, и ему накидали соломы на дно телеги.
Тощая кобыла влажными губами охватила Казанову за руку.
— А тебе чего надо? — пробормотал он и похлопал ее по морде. — Разве я виноват, что на тебе поеду? Не я занимался устройством этого мира.
Тронулись. Здешним миром, похоже, вообще никто не занимался, думал Джакомо, проезжая мимо вросших в землю покосившихся домишек, навозных куч, из которых жижа текла прямо на улицу, людей с тяжелыми сонными взглядами. Есть, видно, такие уголки, где ни Бог, ни, Разум, ни История еще ничего не добились, — заповедники безнадежности, острова дикарства. Вне времени, за пределами государств и народов. Особый мир, прозябающий рядом с нормальным, развивающимся, где правят законы и в чести философия. И где все сущее увенчано высочайшим достижением человеческого духа — искусством. А какой дух способен оживить этот червивый клочок материи, какое искусство может здесь родиться? Разве что искусство выживания, которым, судя по всему, упорно стараются овладеть эти босые и кудлатые бедолаги, нехотя уступающие ему дорогу.
Надо написать об этом Вольтеру. Чванливый мыслитель, одержимый идеей Разума, конечно, высмеет его малодушные сомнения, возможно, припишет их неправильному питанию или избытку семени в организме, но кто, если разобраться, видит мир в истинном свете — он, проникающий в самые дикие уголки, или окопавшийся в своей деревенской глуши философ? Впервые он написал Вольтеру несколько лет назад, тронутый его громким негодованием по поводу землетрясения в Лисабоне[7], того самого землетрясения, которое в него, Казанову, заточенного на раскаленном чердаке венецианского Дворца дожей, сперва вселило сладостную надежду на освобождение, а затем, всего минуту спустя, — горечь сомнения в милосердии Всевышнего. Разве не подобная причина заставила французского философа взяться за перо? Потом они наконец встретились и — хотелось бы сказать — друг другу понравились, но это не было правдой. Или, во всяком случае, было неполной правдой; с тех пор Джакомо предпочитал с Вольтером переписываться, а не беседовать. Все, что тот говорил, было полновесным, гладким, до омерзения самоуверенным; в его речах не оставалось места сомнению, злобе, глупости. Разве мир таков? Где? Даже в деревенской глуши ничего подобного нету.
Странное существо с огромной детской, но совершенно лысой головой выкатилось на кривых ногах на середину дороги и остановилось, разинув рот. За собой уродец тащил на веревке что-то бесформенное, не то обрывок шкуры, не то тряпку — вроде тех, что были на нем. Когда они приблизились, привязанный к веревке комок зашевелился: это была тощая, дрожащая от смертельного ужаса крыса. Два несчастных создания — в обоих было и что-то человеческое, и что-то звериное — уставились на путников. Возница щелкнул кнутом и смачно выругался. Уродец, в последнюю секунду выскочив из-под лошадиных копыт, выпустил из рук веревку. Освободившаяся крыса метнулась в сторону и, волоча за собой свои путы, нырнула в придорожные кусты. Вдогонку ей неслось беспомощное нечеловеческое бормотание кретина.
Ну как тут не усомниться в разумности устройства мира? Как сохранить веру в прогресс, в цивилизацию и науку, развитие которых предрекает Вольтер? «Вряд ли, дорогой друг, — казалось, слышал Казанова его голос, — кому-ни-будь удастся логически доказать, что в этом уголке никогда не воцарится Дух Прогресса, не накормит этих людей, не обует, не причешет, как тебя, не позаботится о чистоте ногтей, не научит читать и писать, а затем и употреблять женщин утонченными способами. Так будет, так должно быть, это лишь вопрос времени. Можешь мне поверить — исключительно вопрос времени. У мира нет иного выхода, он обречен двигаться в этом направлении. Так подсказывает логика, королева наук, а с королевой мы, люди чести, не имеем права спорить».
Отлично, но предположим, он республиканец и никакой королеве повиноваться не намерен. А уж тем более, гм-м, царице, пусть это будет даже Царица Наук, а не, например, некая конкретная государыня, к которой маэстро питает весьма неожиданную слабость. Поглядел бы хоть, с кем эту слабость разделяет…
Джакомо вспомнилась последняя встреча с Куцем. Все уже было позади, он шел не на допрос, а чуть ли не на аудиенцию. Его наставникам предстояло лишь поставить точку, напутствовать новичка, новообретенного борца за общее дело. Куц для этого не очень-то подходил. Когда улетучился страх, который он вначале внушал, оказалось, что капитан просто глупец. Его излюбленные хамские шуточки о том, что для полного счастья всех надо зажать в кулак, о происках сатаны и отрезанных яйцах перестали казаться на свой лад забавными; к тому же Казанова их выучил наизусть. И тем не менее Куц ухитрился напоследок нанести ему чувствительный удар. Вольтер. Преклоняется перед императрицей, восхищается ее умением задавать тон Европе и даже миру. Это, пожалуй, кое-что значит, а?
— Каждому — ну, почти каждому — дозволено иметь собственное мнение, — осторожно заметил Джакомо: ведь он сам, пока ему не протерли грязной тряпкой глаза, разделял это заблуждение, — а уж тем более такому человеку, как Вольтер.
— Что тебя с ним связывает?
Куц не сумел сохранить тон непринужденной беседы — куда ему, полицейскому до мозга костей. Вот он — долгожданный шанс. К черту осторожность, что теперь ему может сделать этот паяц! И Джакомо с заговорщическим видом нагнулся к капитану:
— Нить. Нас связывает некая нить.
— Чего, чего?
— Нить взаимопонимания, вернее, даже заговора, преследующего крайне секретную цель.
— Например?
— Например, охмурение власть имущих притворной лестью.
— Ты! — Капитан побагровел от бессильной злобы. — Полегче, тебе это может дорого обойтись.
— Я постараюсь, чтобы дорого это обошлось вам, сударь, — отрезал Казанова и встал.
Больше он Куцу не сказал ни слова.
Они проезжали мимо последних, похоже заброшенных, лачуг. Хотя нет — две уродливые старухи, скаля беззубые десны, показывали на них искореженными подагрой пальцами. Джакомо приветливо им улыбнулся: пусть еще сильней удивятся.
Значит, это — всего лишь вопрос времени? А если время принесет какую-нибудь неожиданность? Может быть, здешний люд не пожелает ждать и двинется против течения, наплевав на посулы философов. Не их мир тогда погибнет — наш. Не выдержит натиска толпы, жестокости, грубой силы. Не разум восторжествует, а глупость, не добро, а зло. Дух Прогресса никого не накормит — сам будет проглочен в первую очередь. Не мы станем этих людей причесывать, а они сорвут с нас парики и обреют наголо. И отмывать их мы не будем, а сами зарастем грязью. И утонченным ласкам обучить не сумеем — это они нас будут учить скотскому насилию. Кто знает, как оно будет? Даже величайшие философы могут ошибаться.
Как только выехали из местечка, Казанова отогнал от себя эти мысли. Впереди открылось красивейшее бескрайнее пространство, пересеченное лентой большака и на горизонте окаймленное лесом. Мальчик спал — по-прежнему казалось, что жизнь в нем едва теплится. К счастью, было тепло и солнечно, легкий ветерок гнал облака на юг. Джакомо пришпорил лошадь, потрепал по холке, подивился, с какой легкостью эта кляча его несет. И все-таки разок кольнула тревога: что его там, за горизонтом, ждет? Остригут наголо или нахлобучат два парика сразу?
Впрочем, теперь можно было подумать о совершенно другом.
Например, о том, что у него с утра болит голова, и в нормальных условиях — в Париже, Лондоне, Дрездене — он бы сегодня не встал с постели, продремал до вечера, а то и до завтрашнего утра. Или, черт побери, наоборот: он пока еще не полный рамоли, рано ему валяться без дела, ну конечно, он бы завлек в постель опытную красотку и приказал лечить себя всеми известными ей способами. Какой-нибудь, несомненно, помог бы, голова, в конце концов, всего лишь часть тела.
Или — в Мадриде, Риме, Берлине — он бы отправился на верховую прогулку. Почти как сейчас, хотя… можно ли сравнивать! В безупречно скроенном костюме для верховой езды грациозно вскочил бы на спину стройного скакуна английских кровей или арабской кобылы, умело подкованных, привыкших цокать копытами по усыпанным гравием аллеям, а не — как эта кляча — по грязным проселкам и лесным буеракам. Повстречал бы приятелей — знатного рода, склонных к философским беседам, не в пример здешним сычам, недоумкам и шпионам. Всякая боль бы мгновенно прошла.