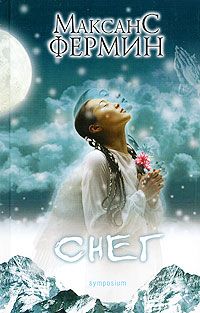Сергей Львов - Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле
Нет, нелегким был первый год в монастыре — год послушания. Конечно, могущий вместить да вместит, но могущий ли он?
Ему исполнилось пятнадцать. Его мучило любовное томление. Вспоминалась соседка, молодая, красивая, рыжеволосая. Однажды она полоскала белье на берегу ручья, стоя по щиколотку в воде. Легкая юбка была высоко подоткнута, рукава закатаны, белая рубаха обтягивала грудь. Джованни шел, задумавшись, и неожиданно оказался на берегу ручья совсем рядом с ней. Она вскрикнула, а он остановился на месте, не мог ни глаз от нее оторвать, ни убежать. Соседка заметила волнение мальчика и рассмеялась. В ее смехе звучал душный хмель летнего дня. Наваждение! От него надо откреститься, но его невозможно забыть.
И та, другая, мелькнувшая в носилках на дороге, сверкнувшая черными глазами, на миг показавшая белую руку, снилась ему ночью. И плясунья с черными косами, перегибавшаяся под томительный звук дудки, под сухое постукивание бубна, под звяканье колокольчиков… Говорили, что святая вода и чтение Евангелия от Иоанна обращают греховные видения в бегство, но это помогало не всегда. Кому расскажешь об этом и что услышишь в ответ! Услышишь о славных братьях минувших лет, которые, когда их томила плоть, причиняли себе страшную боль, чтобы заглушить ею соблазн, или трижды и три раза трижды входили в ледяную воду, чтобы преодолеть искушение. Некий брат, томимый такими видениями, бросался на колокольню, бил в колокол. Разбуженная братия устремлялась в церковь молиться, чтобы отогнать бесовское искушение от того, кто так слаб в борьбе с ним. «Можно представить себе, как они его ругали!» — подумал Джованни, рассмеялся и испуганно прикрыл рот рукой. И сама мысль, и смех были грешны. Сколько уже людей вели до него в монастырских стенах тяжкую эту борьбу, скольких она погубила!
Царь небесный создал свет и отделил его от тьмы, сотворил твердь земную, зелень, траву, деревья плодовитые, светила на тверди небесной, птиц, рыб, скотов, зверей и, наконец, человека — по образу своему и подобию. Но зачем создал он соблазны на пагубу человеку? Иногда ему казалось, что если бы он трудился так тяжело и с утра до ночи, как трудятся все в родном селенье, грешные мысли не столь сильно одолевали бы его. Хотя послушникам приходилось рано вставать, отстаивать долгие службы, долго сидеть на уроках, прислуживать монахам, подметать коридоры обители, настоящего труда они не знали. Некогда уставы предписывали и братии и послушникам тяжкий труд в поле, в саду, в мастерских, но это ушло в прошлое. Монастырскую землю пахали работники. Угодья обители были невелики. Большую часть припасов она получала от окрестных крестьян: привозить в монастырь муку, чечевицу, вино, бобы, рыбу, виноград и прочие земные плоды было их повинностью. Когда на заднем дворе монастыря появлялись крестьянские повозки на высоких колесах, вытесанных из дуба железной твердости, когда двор заполняли загорелые до черноты, бедно одетые люди с каменно-твердыми руками, пахнущие солнцем и потом, Джованни тянуло к ним. Они были похожи на людей из родного Стиньяно.
Однажды, когда крестьяне привезли в обитель припасы и отдыхали на дворе, ожидая, пока инок, ведавший кладовой, пересчитает привезенное и отпустит их, один из парней, не думая о святости места, где находится, запел песню бедняка, брошенного в темницу.
— Так камень падает на морское дно, — пел певец. — О темница, как глубоко ты под землей! Такими бывают только могилы, но я жив, почему же я в могиле? Что творится на свете? Что с моими друзьями? Живы они или умерли? Мне никто не говорит этого! Всюду свежий воздух. Им дышат все. И все свободны. Как прекрасна свобода! Как же я потерял ее? Меня заточили в подземелье, заперта моя тюрьма, но открыты суды, чтобы снова судить меня! И мои друзья меня предали. Одни хотят, чтобы я вечно оставался в тюрьме, а другие и вовсе желают, чтобы я умер… Почему?
Певец пел негромко, уныло. Остальные молча слушали. Джованни чувствовал, как каждое слово песни западает ему в душу. Нет, обитель не похожа на тюрьму. Но почему так волнует его эта песня? Он запомнит ее. А если не запомнит, то напишет заново: она станет еще печальней и еще прекрасней.
На дворе появился отец-эконом. Пение прекратилось. Получив вместо платы благословение, крестьяне потянулись восвояси. На вытоптанном дворе остались клочья сена, которые выдул ветер. И снова тихо в обители. Лишь негромкие голоса, да пение в церкви, да тяжелые удары колокола. Джованни показалось, что было бы счастьем попроситься на такую повозку, уехать из этих стен, из этого ухоженного сада, от этой тишины. Да что уехать! Уйти! Домой. Туда, где отец колет острым ножом твердую дощечку, чтобы наделать из нее гвоздей, варит вар, сучит щетину, вощит дратву. Где мать озабоченно хозяйничает около очага, сложенного во дворе. Где растут брат и сестра. Туда, где можно говорить во весь голос, ходить, не опуская глаз в землю, бродить по округе и никто не спросит тебя, где был. Туда, где можно снова встретить рыжеволосую соседку. Однажды он долго смотрел на нее через живую изгородь, она заметила его и не рассердилась. Как прекрасна свобода! «Почему же я потерял ее?» — вспомнилась песня, только что слышанная.
Но где взять дома книги? Как утолить дома жажду знаний? Ради нее он готов претерпеть все. Нет в его душе страсти сильнее, чем эта. Среди многих мудрых слов, сказанных наставником, который привел его в обитель, надеясь, что он, Джованни, со временем станет гордостью славного ордена доминиканцев, ему особенно сильно запали в душу не вполне понятые им, томящие его, как тайна, прекрасные слова: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Так учил проповедник Екклесиаст. Его очи еще мало видели, его уши еще мало слышали, но сколько бы ни увидел он, сколько бы ни услышал он, ему все будет мало! Он взыскует истины, и голод, живущий в его душе, неутолим.
Глава VIII
На протяжении года послушнику Джованни трижды прочитали монастырский устав и бессчетно повторяли: подняться к нему можно только по ступеням смирения. И каждый раз он отвечал, что хочет войти в лоно святой обители смиреннейшим ее братом. Ему снова и снова напоминали, что, приняв сие решение, он лишается права в будущем отказаться от монашества под угрозой вечного осуждения. Обычай требовал, чтобы он за время, предшествующее пострижению, много раз оставлял на короткое время обитель и стучался потом в ее стены. Прошел он и через это. Для него привычными стали рассуждения: «Мир — тлен, и все блага его — тлен, и вся жизнь — тлен!», но порой, когда он слышал или произносил эти слова, перед ним возникали горы вокруг Стило весной, когда на склонах цветут миндаль и дикие олеандры. Да, цветы отцветут! Но новой весной все возродится! А здесь поучают: «Разве можно назвать земную жизнь, которая вся — лишь ожидание смерти, жизнью? Она — жалкое прозябание. Живет лишь тот, кто упивается светом истины в стенах святой обители, вкушает радость слияния с богом, готовится к жизни вечной и уверен, что обретет ее».
Джованни слушал, повторял, затверживал. Но как судить ему о земной жизни, как отвергать ее, он ведь еще не жил?
В ночь накануне посвящения Джованни не спал. Терзался. Он так молод, так мало прожил за стенами обители, так мало земных радостей изведал. И завтра от всего отречься? Отречься, не имея возможности потом ничего изменить. Отречься навсегда. На-все-гда, какое тяжелое слово! Ему представлялись сверстники, избравшие другой путь. Почему он здесь? Верно ли он поступил? Был бы рядом наставник, который направил его на эту стезю, выговориться бы… Но того нет. «Сегодня я в Гефсиманском саду», — подумал Джованни и ужаснулся дерзости этого уподобления. Но память подсказывала строки Евангелия об Иисусе, который, зная о том, что его ждет, пришел на место, называемое Гефсиманией, сказал ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». Потом отошел в сторону, упал на землю, начал молиться и плакать: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия».
Да минует меня чаша сия! — так мог бы воскликнуть и Джованни, которому наутро предстоит распрощаться со своим именем, со своим прошлым, со своими близкими. Его не ждет смерть, как того, кто, плача и томясь, молился в Гефсиманском саду, его ждет всего лишь умерщвление плоти, всего лишь подчинение суровым заветам. Его ждет жизнь не человеческая, но иноческая. Да минует меня чаша сия!
Джованни уснул с трудом. Его разбудил громкий, торжественный благовест колоколов.
Пострижение в монахи нового брата — событие!
В назначенный час Джованни предстал перед братией в благоухающей ладаном церкви. На полу были разбросаны розовые лепестки. Прозвучало торжественное оглашение: «Обитель готовится восприять в свои стены нового брата!» В ответ Джованни смиренно произнес:
— Я прошу принять меня в лоно вашей святой обители и позволить мне стать ее иноком и слушать каждый день животворящее слово божественного откровения.