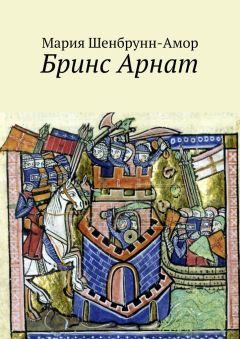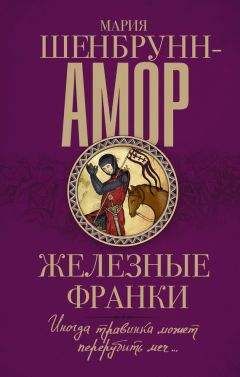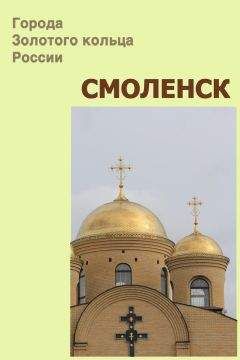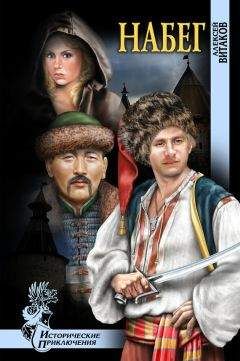Мария Шенбрунн-Амор - Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад
Ибрагим промокнул глаза рукавом:
– Да, ныне в нашей святыне конюшни храмовников.
Заблудшая, обреченная душа ибн Хафеза!
– В Мекке и Медине ваши святыни, – отрезал суровый рыцарь Христа. – Сами-то туда христиан под страхом смерти не пускаете. А Град Искупления навеки наш. Не нужно Иерусалиму почитание обрезанных собак. Чем больше этого почитания, тем больше крови за него прольется.
У ворот Давида располагались стойла и таможня. На склоне холма, по которому ступал Искупитель рода человеческого, глупые козы звенели колокольчиками и щипали траву, нахально растущую из благословенной земли. Босоногий мальчишка кидал в коз камешки. Как ни в чем не бывало лаяла самая обычная собака. Иерусалим был подобен Писанию – Благая Весть потрясала и спасала душу, и вместе с тем город был прост и обыден, как просты и обыденны пергамент и чернила, увековечивающие Божественную истину. Все в этом святом месте оказалось до смущения земным и похожим на знакомое с детства. Так, наверное, праведник озирает рай.
В Храме Воскресения Констанция опустилась коленями на холодный мрамор, закрывавший усыпальницу Господа, и, не смея взглянуть ввысь, замирая от ожидания чуда, воззвала:
– Господи, это раба Твоя, Констанция, дочь погибшего ради Тебя Боэмунда Антиохийского, внучка славного короля Иерусалима Бодуэна II, супруга Раймонда де Пуатье, отдавшего за Тебя жизнь…
Но слышался только надтреснутый голос Марго, а потом и ее причитания заглушило прекрасное многоголосие греческого хора. Когда крестоносцы отвоевали Иерусалим, первым делом они, конечно, восстановили единственно истинную веру и забрали у греческих схизматиков ключи от усыпальницы Господа, но в тот же год происками византийских попов на Пасху не снизошел Благодатный огонь, и пришлось уступить коварным ромеям алтарь в соборе. А армянам и яковитам достались старые часовни на западной стороне южного двора. Оставалось надеяться, что Бог сам смотрит и судит: кто – правоверные латинянине, а кто – еретики, исказившие символ веры и отрицающие примат римского понтифика.
Паломники возложили свой крест на Голгофу поверх груды прочих крестов. Княгиня старательно облобызала все алтари под несметными лампадами, обошла все часовни, помолилась у огромной серебряной статуи Иисуса Христа, у Животворящего Креста, прочитала семь покаянных псалмов у камня, преданно хранившего капли крови Спасителя, спустилась в крипту Святой Елены и туда, где равноапостольная нашла Животворящий Крест. Не было на земле места, более приближенного к раю, чем эта темная, пахнущая плесенью часовня. Помолившись здесь, Констанция была прощена и спасена. Сквозь горе потерь и прозябание последних лет светлым родником пробилась и потекла надежда.
Досаждало лишь, что сладчайший Иисус по-прежнему отвечал лишь настырной Марго. Впрочем, Констанция не упрекала Спасителя. Никому на свете эта одинокая старуха не была нужна, не мог же и Он покинуть ее.
На стенах, полу и даже на новых мозаиках блестели свежие царапины – выбитые кресты, даты, имена, гербы паломников. По просьбе княгини Бартоломео отколол от гробницы Спасителя малюсенький осколочек, а на портале собора старательно выскоблил кинжалом герб Антиохии. Теперь Констанция навеки под охраной реликвий, а память о ее паломничестве пребудет высеченной в камне во веки веков.
При королевском дворе вдову убиенного мученика князя Антиохийского принимали как царственную особу. Бароны Утремера – от всесильного коннетабля Менассе д’Иержа до многочисленных и горластых, как бедуинское племя, Ибелинов – предпочли забыть прошлую размолвку с павшим геройской смертью Пуатье. В честь княгини Антиохии устраивали пиры и турниры, ее сажали вровень с королевской семьей, дамы наперебой сочувствовали молодой вдове, матери трех сирот. Многих из присутствующих Констанция знала: кого-то помнила еще по встрече в Акре, кто-то гостил или служил в княжестве, некоторые, как шевалье Рейнальд де Шатильон, прибыли в Антиохию вместе с Людовиком и остались на Земле Воплощения, следуя примеру отказавшегося сойти с Креста Спасителя.
Констанции не терпелось увидеть претендентов на свою руку, но от вида первого из них, графа Суассонского, по общему мнению – весьма достойного барона, застыдилась своих глупых мечтаний. Граф пожирал ее выпученными глазищами и осаждал владетельную наследницу по всем правилам куртуазной науки. Только Констанции было бы легче перейти на плесневелый хлеб после нектара и амброзии, нежели после красавца Пуатье лечь в постель с жабой-Суассоном. Кузену Бодуэну и тетке Мелисенде пришлось бы волочь ее к венцу связанной.
Впрочем, Суассон оказался далеко не единственным воздыхателем. Многие безземельные бароны намеревались попытать счастья на матримониальном ристалище и при приближении Констанции вскидывались, словно боевой конь при звуке рожка. Рыцари наперегонки бросались угождать ей и пели безудержные дифирамбы внезапно обнаруженным достоинствам властительницы Антиохии. Так, наверное, постоянно чувствовала себя Алиенор, но Констанция – впервые. Даже вокруг развязной Агнес де Куртене столько ухажеров не толпилось. Хотя толстый семнадцатилетний Амальрик, граф Яффы и Аскалона, младший брат короля, не отходил от рыжеволосой красавицы и смотрел на нее с таким обожанием, что людям неловко становилось.
А вот Рейнальд де Шатильон нежными признаниями не преследовал, не вздыхал, кубка за Констанцию не поднимал, цветов и подарков не дарил, отвечал нехотя и нравиться не старался. Но именно его она невольно искала взглядом. Не одна она. Многие дамы в присутствии светлоглазого, надменного красавца с ямкой на подбородке, с густыми темными бровями и хрипловатым голосом, краснели, сбивались и глупо хихикали. Но Шатильон вел себя с прелестницами равнодушно, а они одновременно и побаивались его, и жалели, и восхищались им. Констанция с досадой заметила, что рядом с шевалье и сама старалась вытянуться, казаться выше и стройнее. К месту и не к месту смеялась грудным смехом, тайком оглядываясь на него, часто меняла наряды и обильно душилась соблазнительным аравийским ароматом. Он привлекал не только неотразимым обликом, он казался загадочным и необычным: то мрачным, то отчаянно веселым, и даже когда держал себя невозмутимо, спокойствие его было спокойствием натянутого до отказа лука, вставшего на дыбы жеребца, рвущего причальный канат корабля. До боли хотелось, чтобы, дав себе волю, он полетел именно к ней.
Однако просить Шатильона сопровождать ее по святым местам она бы никогда не решилась. Это уж шальная Изабо подстроила. С тех пор, как король начал благоволить к мадам де Бретолио, неугомонная вертихвостка похорошела, помолодела, и фонтан ее жизнелюбия вновь забил до небес. Впрочем, Констанция больше не корила ее, горбатого могила исправит.
За полвека владения Иерусалимом латиняне восстановили все разрушенные неверными святыни. На гигантский купол Темплум Домини водрузили крест и превратили его в церковь августинцев. Огромную скалу внутри, ту самую, на которой Иакову приснилась соединяющая землю и небеса лестница с ангелами, облицевали мраморными плитами и огородили железной кованой решеткой, а у входа воздвигли алтарь. Правда, мраморные стены по-прежнему украшали голубые мозаики с вьющимися по ним листовыми орнаментами и золотые и серебряные надписи, похожие на корабельные реи в бушующем море. Некоторые шептали, что это чуть ли не оставшиеся от халифов сунны Корана, некоторые утверждали, что здание было построено византийцами, а люди знающие доказывали, что этот прекрасный храм и был остатками разрушенного халдеями Храма Иерусалимского. Одно было несомненно – Святилище Господне находилось именно тут.
Тем не менее, Соломоновым Храмом прозывался соседний дворец, тоже с серебряным куполом. До недавнего времени он служил королевской резиденцией, а ныне его занимали тамплиеры, оттого прозванные бедными рыцарями Христа и Соломонова Храма. Царь Соломон построил под зданием необозримые конюшни, в которых арочные своды поддерживали столбы из гигантских камней. В них храмовники держали тысячи боевых коней. А в самом помещении, весьма обветшалом, хранили оружие, одежду, еду, запасы зерна. Нашлось внутри место и церкви, и солярию, и термам. Знатным гостям-сарацинам позволяли молиться в отведенном для них приделе, хоть это и возмущало порой пилигримов, не ведавших терпимых обычаев Заморья.
С орденом храмовников соперничали братья-монахи ордена госпитальеров, они же иоанниты. В огромной зале их лазарета могли уместиться две тысячи страждущих. Даже Ибрагим поразился, узнав, что четыре доктора два раза в день обходили всех пациентов, и каждый из больных имел не только чистую простыню, но и сапоги – дойти до отхожего места, а роженицам выдавали колыбели, чтобы ни одна из них не заспала дитя. Констанция пожертвовала госпиталю две тысячи локтей полотна.