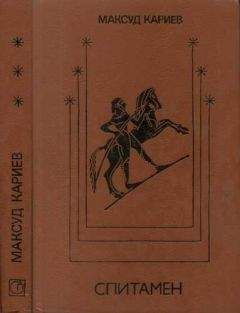Андрей Косёнкин - Крыло голубиное
Спал же Игнашка в земляной норе, которую вырыл среди обугленных, однако не сгоревших до пепла стен Спиридоньевой мыльни. Сперва спал один, затем с кобелем, признавшим-таки в Игнахе хозяина. Пес дышал скоро, надышливо, и в шерсти у него, особливо на брюхе, там, где оставалось голое тело, было жарко даже в самые холодные ночи…
Игнаха иногда думал, что так-то и зиму можно прожить. Хотя больше тешился, сам-то он знал, что, как кончится козье мясо да подъедятся остальные припасы, придется ему идти к людям, в Чернигов-город.
Одно было нехорошо: от колодца такой сильный дух попер, что поначалу аж в голове мутилось и хотелось блевать. Он бы его прикопал, забросал сверху землей, но в тот день, когда как раз собрался этим заняться, со стороны Чернигова подъехали верховые. Игнаха заметил их издалека, а потому успел затаиться. Он-то боялся, что они по его погребницам рыскать начнут. Но верховые только услышали дух, тут же коням дали плети и промчались мимо, морды отворотив. Так что не стал он колодец прикапывать, оставил на всякий случай для запаху.
Да и дух тот потом уж не замечал: то ли он выветрился, то ли Игнаха к нему привык.
6
Необъятен улус, назначенный Чингисханом во владение своему старшему сыну Джучи[32]: от берегов Иртыша до Волги, от «стран мрака» до Хорезмского шахства… Велик улус Джучи, но это лишь малая часть желтой Монгольской империи, простершейся от Китая до Ирана, от Японского моря до Черного. И пределов их царству нет, как нет на земле человека выше монгола.
Всякий мальчик будет умен и богатырь… всякая девушка будет без причесывания и украшения прекрасна и красавица. Никто из подданных империи не имеет права иметь монгола слугой… Так говорил Делкян езен Суту Богдо Чингисхан, Владыка Человечества.
И еще говорил: границы монгольского царства там, куда ступят копыта наших коней…
Сын Джучи, Баты, чтил Джасак[33], а потому, заняв место умершего отца, направил свое несметное войско дальше на запад. Огненным батогом, вразумляющим грешников, копыта монгольских коней промчались над Русью, испепелив цветущие, но разобщенные города. Удушливым дымом горящей человеческой плоти наполнилась Русь от Киева до самого Новгорода. Вступившим в неравную схватку гордым и смелым, однако недружным русичам не было пощады от невиданных доселе свирепых и безжалостных, сильных единством монголов. Бессчетно убивали мужчин, стариков, женщин, младенцев, бесчестили юных и обесчещенных жгли, беременным взрезывали животы, чтобы те в последний миг успели увидеть свое нерожденное и уже неживое дитя. В плен не брали, чтобы и памяти не осталось о народе, посмевшем с оружием встать на пути потомка могучего Чингисхана, наместника Вышнего на земле. Спаслись лишь те, кого не смогли убить от усталости, да те, кто сумел укрыться в лесах… И сто лет спустя видны были минувшие разрушения, и когда-то возделанная земля оставалась пуста и не населена.
Надолго самым страшным, диким словом стало имя тех, кого монголы пускали вперед себя в приступ: татары! Для самих же монголов татарами были все, кого они победили, приобщив в свое царство…
Непросто дался русский поход Баты. Ему пришлось остановить бег коней и на зимовье вернуться в степи. Истрепанное упорным сопротивлением русских, монгольское войско нуждалось в пополнении и отдыхе.
А через год Баты снова пошел на запад. Достиг Венгрии, Силезии, Чехии и Болгарии, Иллирии и Далмации[34], навеяв мрак и ужас на остальной христианский мир. Нашествие это было величайшим бедствием, когда-либо постигавшим человеческий род. А страх перед татарами стал так велик, что Европа готова была принять татар с покорностью, как неизбежное наказание небесное.
Однако Баты по доброй воле с добычей и победой вернулся вскоре обратно в полюбившуюся ему Кипчакскую степь, где он и положил быть ставке своей Орды, названной Золотой.
Скучно в Кипчакской степи русскому глазу. Вперед ли глянешь, назад — всюду одно и то же: небо да степь, степь да небо. Небо белесо и низко от облаков, степь бела и уныла, как бесконечный саван, и не понять, где одно переходит в другое. Хоть раствори глаза во всю ширь, хоть сощурь их — ничего не различить в пасмурной пелене, всюду пусто. А для ордынцев раздолье! Как они только видят своими косыми, вытянутыми узким серпом маленькими глазами на много верст окрест, конный ли, пеший мелькнул на краю окоема, волки ли показались вдали или степные козы?.. А ведь видят! Ишь, то и дело что-то кричат друг дружке, смеются, тычут плетками в белую пустоту. Не зря у них на бунчужных знаменах серый кречет, закогтивший добычу: так высоко над степью парит, что его самого и не видно, его же взгляду доступно все. Видит, где змея проползла по земле, где суслик поднялся над норкой, где птаха прячет гнездо. И в бой идут с визгом — кречет-то тоже клычет, падая с-под небес на наседку, чтобы от одного клекота остановилось в ней сердце…
Санный поезд тверского князя, вышедший из Сарая пять дней назад, то ли в знак особой милости хана, то ли еще по какой нужной причине провожал верховой отряд под началом знатного монгольского мурзы Ак-Сабита. Сейчас его всадники, вздымая легкую снежную пыль, наперегон посылали коней в сторону от укатанного пути. Михаил Ярославич смотрел на них из возка, чуть отвернув тяжелый войлочный полог. Что там?..
— Князь, ты же не старый байбак, иди, промни кости! — смеясь, крикнул по-русски мурза. — Скоро мои нукеры коз погонят. Большой лов будет! Иди! Я тебе лук отдам — первым будешь стрелять!..
Первым стрелять на всякой охоте большая честь, но князь, глядя на красное, обветренное лицо татарина, на иней на его обвислых усах, выходить из теплого возка не хотел. Да и не было у Михаила никакого желания к этой охоте. Только ведь здесь, в Орде, сам себе не хозяин — может, и провожает-то его Ак-Сабит лишь затем, чтобы снять с коня вроде бы случайной стрелой на попутной охоте. Много и ранее слышал о нравах Орды Михаил, много и сам ныне увидел. Но и в возке остаться нельзя — нехорошо. И Ак-Сабит не отстает, скалится:
— Ну что, князь! Айда со мной сайгу бить!
— Ефрем!
Михаил на ходу соскочил с возка, запахнул дубленую легкую шубу, отороченную бобром, затянул широкий серебряный пояс, тяжелый от сабли.
— Сабля-то зачем, князь? Говорю, я тебе свой лук отдам, — засмеялся ханский мурза, развернул вороную кобылку и, указав плетью перед собой в направлении ему одному видного места, крикнул: — Туда скачи, там коза будет…
Затекшие от долгого недвижного сидения ноги кололо морозными, быстрыми иглами. Михаил несколько раз резко взмахнул руками, присел, разгоняя по жилам кровь. Этой осенью в день тезоименинника Михаила Архистратига[35] князю пошел двадцать первый год. Теперь это был не безусый отрок, что-когда-то смущался ломкого голоса, но довольно высокого роста, ладный в плечах уже не юноша, но и не вовсе зрелый мужчина с не стриженной еще бородой, лившейся с лица мягкими русыми прядями.
— А ты бы не ходил на лов, князь. Не верю я им… — Ефрем подвел в поводу задиристого, бойкого Князева жеребца, который терпел рядом только Тверитина и хозяина.
— Да кто ж им верит, Ефрем… — Михаил усмехнулся. — Я скорей вон ему поверю, — кивнул он на жеребца, которого за злой и коварный нрав звали на конном дворе Баскаком. Давая почуять жеребцу свою руку, князь с силой потянул за повод. Баскак хотел было кинуть вверх головой, но Михаил ему не позволил: — Ну, балуй! — прикрикнул он на жеребца и отослал Ефрема. — Лук принеси. Да тот лук-то возьми — дареный!
Большой двойной лук, скрепленный рогом буйвола, с серебряной насечкой, в богатом, шитом золотом налучье Михаилу подарил хан Тохта[36]. Всякий подарок, полученный в Орде, нес определенный, хотя временами и не сразу понятный смысл. В этом подарке загадки вроде бы не было: я тебе верю, как бы говорил хан, и даже даю тебе лук и стрелы на твоих и моих врагов. Впрочем, и самому простому ордынскому подарку, не говоря уж про царский, можно было дать не одно толкование…
Князь сам приторочил к седлу кожаную тулью с длинными нерусскими стрелами, уже расчехленный лук, затем поймал ногой стремя и вскочил на коня. Вместе с ним от обоза в степь ушло около двух десятков всадников: некоторые бояре, Тимохи Кряжева горсть да Тверитин, державшийся ближе всех за Князевым жеребцом.
Ак-Сабита и его спутников Михаил нагнал в пологой ложбине, где оказался внезапно глубокий, аж по конские бабки, снег и не было мучительного беспередышливого степного ветра. Еще издали, обернувшись на шум, Ак-Сабит приложил ладонь ко рту: тише! Значит, загонщики должны были выгнать стадо сюда. Теперь стала ясна хитрость татарского лова. Двумя лучами охватив стадо, загонщикам следовало повернуть его к месту засады. Михаил хотел спешиться, чтобы было сподручней стрелять, однако Ак-Сабит, обнажив в улыбке белые зубы, знаком дал понять, чтобы князь не делал этого: стрелять надо с коня, вырываясь навстречу стаду. Иначе, наверняка почуяв людей, сайга уйдет, свернет в сторону, не приблизившись для убоя — степь широкая, а загонщиков мало. Да, для такого лова загонщиков явно недоставало, нельзя было ждать, что стадо покорно пойдет куда надо. Оставалось надеяться на хитрость татар, удачу и меткость.