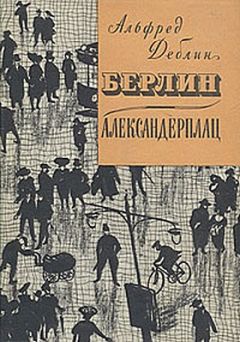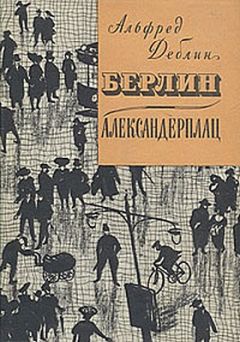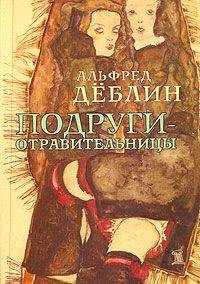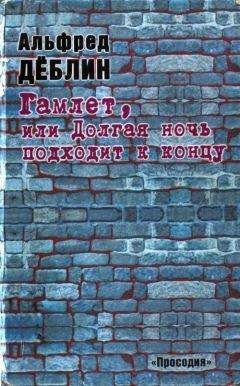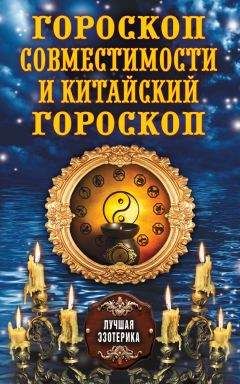Альфред Дёблин - Три прыжка Ван Луня. Китайский роман
Галлюциногенные свойства присущи и языку романа. Отдельные предложения слабо связаны друг с другом, они как бы пребывают в свободном парении, колышутся — и потому легко забываются, подобно ярким образам из сновидений. Некоторые фразы сформулированы столь небрежно, что остаются неясными; другие, похоже, были написаны в состоянии транса, а после намеренно не правились. Особенно примечательно многообразное, характерное для Дёблина на протяжении всего его творческого пути отображение не произносимой вслух, а только внутренне переживаемой речи. Этот прием снимает различие между внутренним и внешним миром, то есть лишает реалистический стиль его главной опоры; а сверх того, и на изображаемый таким образом внутренний мир Дёблин смотрит совершенно по-новому — взглядом врача. Вот, например, как он описывает в начале романа созревание у Ван Луня мысли об убийстве: «… маску ведь можно напялить на голову дусы, задушить ею, отбросить мертвое тело прочь. Хорошая идея. Ван был счастлив. Напялить маску на дусы, а самому потом — прочь. Напялить — и сразу прочь, прочь». При изображении реальных событий приближение синтаксиса к примитиву достигается за счет пропуска логических связок, прежде всего союза «и». Так возникает нечто вроде архаической формы предложения, удовлетворяющейся простым называнием, перечислением вещей и явлений. «Мелькание фонарей между угольно-черными стволами. Хруст веток, приглушенные голоса, зевота, потягивания, топот, толкотня». Этот предельно сжатый, обрывочный стиль достигает кульминации в военных эпизодах и сценах массового экстаза. «Тишина, затаившие дыхание зрители. Гигантские театральные подмостки, визг связанных сестер, обнаженные нежные тела, палки, с треском обрушивающиеся на головы братьев, рев, конский топот, хныканье больных, пустая равнина, дождь». По всему роману разбросаны подобные куски, вплоть до эпизода паломничества Хайтан в самом его конце: «Освещенные солнцем зубцы гранитных утесов. Сновидческие, погруженные в себя ландшафты. Стройные колонны пальм, и над ними звонкие птичьи голоса. Камелии — десятками, сотнями тысяч. Пруды, выдыхающие пар, и лотосы на воде. Среди кустарника, за каменистой тропой, — храм у подножья горы. Туго натянутое небо». Такая повествовательная манера легко вырождается в манию, особенно в «Валленштейне» и в «Горах, морях и гигантах», где Дёблин утомляет читателя нагромождениями «голых предметов» и минималистских высказываний, в результате чего у него получаются не наглядные картины, а водопады из чуждо звучащих слов. В «Ван Луне» он еще не заходит так далеко. Сравнение окончательного текста с его источниками показывает, что Дёблин, к примеру, намеренно ограничивал себя в использовании китайских выражений и имен. Волшебство дёблиновского китайского романа заключено в особенностях его стиля: он весь — как акварельный рисунок с редко разбросанными цветовыми пятнами. Легкая рука мастера подгоняет один образ к другому, создавая переливающееся яркими красками видение нереального мира. Здесь мы сталкиваемся с искусством околдовывания, с шаманской поэзией.
«Магичность» стиля проявляется также в избыточном изобилии и в самом характере художественных образов. Эти образы тоже взрывают все литературные конвенции и несут в себе нечто небывалое, неслыханное. Вот, например, как описываются прогулки Ван Луня на берег моря: «Часто по утрам море ядовито поглядывало на него мутно-желтыми глазищами, выхаркивало комки мокроты, недовольно ворчало. Но потом все-таки меняло свой серо-черный наряд на другой, пурпурный, — царственно роскошный. Под свежим ветром гордо неслись к берегу волны — колесницы, запряженные жеребцами в сверкающей сбруе…» В этом пристрастии к барочному изобилию метафор Дёблину не всегда удается избежать «холостого хода». Но в романе встречаются и такие места, где читатель переживает конец реалистического повествования, сталкиваясь с каким-то иным законом формотворчества. Это происходит там, где чувственные ощущения описываются не ради них самих, но превращаются в образы-знаки, в зримые символы, и соединяются в такую мозаику, которая отображает уже одну только духовную сферу. Вот, например, что сказано о ландшафтном контексте оргий у болота Далоу: «Угольно-черные глыбы ночи медленно расползались в стороны. Серый газ просачивался в щели, раскалывал ночь на куски, кусок за куском исчезал. И из тьмы выступили катальпы — бараны, нагнувшие рога». Здесь ландшафт как будто целиком заменен образами, передающими чувственные ощущения, — а в удивительном отрывке, который я сейчас процитирую, он замещен человеческой фигурой: «…к тому же погода была великолепная, набрякшая снегом: словно ребенок наклонился над пропастью, и шелковые покрывала, тонкие шали округло выгибаются, раздуваемые ветром, над его головой; и ты видишь только эти колышущиеся ленты, полотнища, пестрые матерчатые пузыри, но между ними мелькают, как тебе кажется, еще и хитрый веселый взгляд, и хлопок в ладоши, а нос твой с жадностью втягивает воздух, пропитанный ароматом имбиря». В таком же символически-абстрагирующем стиле изображены «гигантский, беснующийся на ветру цветок мака» — охваченный пожаром Пекин — и битва под Инпином, происходящая во время грозы: «Из черного воздуха на невидимом шнуре свисал — висел над обеими армиями — гигантский гонг, его удары раззадоривали противников. Два снежных барса прыгнули друг на друга».
Сталкиваясь с чем-то подобным, ты понимаешь, что отречение от красоты в «Ван Луне» не абсолютно. Оно лишь порождает иную красоту, которая вбирает в себя бесформенное, пугающе непривычное и уродливое, чтобы опять обрести способность тревожить человеческие души. Несмотря на свой жесткий и холодный стиль, «Ван Лунь» остается произведением, красота которого доставляет блаженство, — остается еще наполовину романтической, грандиозной китайской сказкой. Дёблин наверняка и сам какое-то время жил в этой сказке как в заколдованном царстве. Ее чары сильнее всего действуют в сценах, связанных с императорским двором, — самых далеких от первоначального замысла романа. Здесь оргии масс находят противовес в сверхчеловеческих личностях императора и таши-ламы, которые приковывали к себе внимание Дёблина прежде всего в силу их непроницаемого величия. Эти дворцовые эпизоды отличаются ювелирной отделкой, они будто хотят превзойти экзотическое великолепие неоромантизма, каким он предстает, скажем, у Гофмансталя. Это особое, изысканное искусство, к которому Дёблин прибегал, например, рисуя портрет больного императора: «Они, тяжело дыша, с трудом влачили свои тела между пальмами и кактусами, прогуливались туда и обратно. Серебристый фазан гордо расхаживал по обрызганным водой мраморным плитам, каждый раз переставляя красные лапки как бы в силу внезапно принятого благого решения, и церемонно выгибал иссиня-черную шею, красовался блеском переливчатых перьев». Описывая разговор императора с Суном и Ху по поводу поэтического искусства, Дёблин демонстрирует глубокое понимание эстетических проблем, и те слова, которые император говорит таши-ламе, можно с полным основанием отнести к самому автору романа: «Я — владыка величайшей империи мира, и я не собираюсь превращаться в кого-то еще. Я родился как Сын Неба и умру на Драконовом троне». Автор «Ван Луня» тоже пока ощущает себя в безопасности на «Драконовом троне» Фантазии. Этот Китай, несмотря на свою осязаемую отчетливость, все-таки не что иное, как греза, в которую его создатель бежал от действительности. Результатом другого подобного бегства, в ходе которого перепутывались разные континенты, сплавлялись в единое целое интуитивные прозрения и плоды научных изысканий, когда-то стал «Западно-восточный диван»; а через несколько лет после написания этой книги Гёте высказался о ней так: «Все восточное, что там есть, как и то, что относится к порывам страсти, уже перестало во мне существовать; осталось, как сброшенная змеиная кожа, лежать на дороге».
Дёблин рассказывает в «Судьбоносном путешествии», как среди ужасов 1940 г., лёжа на нарах во французском бараке для беженцев, он с неудовольствием вспоминал о своей прежней писательской деятельности: «Странная это штука, сочинительство. Я никогда не принимался за него прежде, чем замысел достигал определенной степени зрелости, что случалось, когда он представал передо мной в речевом облачении. Когда же такой образ появлялся, я, наконец, отваживался вместе с ним, моим лоцманом, покинуть гавань — и очень быстро замечал стоящее на якоре судно, большой океанский пароход; я поднимался на его палубу, пароход отчаливал, и я оказывался в своей стихии: путешествовал и делал открытия; лишь спустя много месяцев я возвращался домой из такого большого путешествия, насытившись впечатлениями, и мог снова ступить на землю. Мои путешествия при закрытых дверях переносили меня в Китай, в Индию, в Гренландию, в другие эпохи, даже за пределы времени. Что за жизнь!» В послесловии 1948 г. к изданию его избранных произведений Дёблин сравнивает уже написанные им книги с каменным зданием, отделившимся от собственной материальной сущности, вид которого вызывает у него, автора, ощущение легкой тошноты. «Характерной для таких периодов была особая предрасположенность, особая „аура“. Она наделяла меня ни на что не похожим знанием, своего рода ясновидением. Что знал я о Китае или о Тридцатилетней войне? Я жил в этой атмосфере только в те короткие промежутки времени, когда писал. И тогда — назойливо, упруго — передо мной возникали целые пластичные сцены. Я хватал их, описывал — и стряхивал с себя. И видел, что они уже запечатлены черным по белому. Я радовался, что мне больше не придется иметь с ними дело».