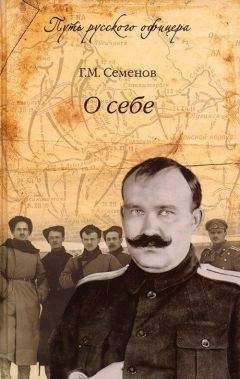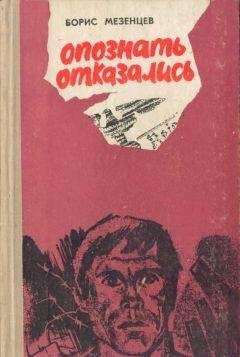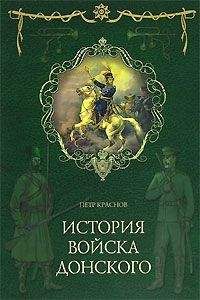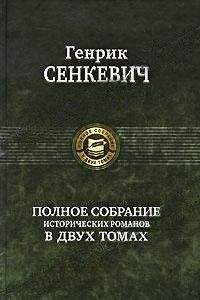Павел Поляков - Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях
- Святые угодники! Ужасти какие! Да как же всё случилось?
Отвечает ей Савелий Степанович:
- Матросы мне никак по-настоящему не доверяли. Спал я всегда вместе с комиссаром, и хоть многое он мне говорил, но о главном умалчивал. Позавчера же, с вечера, оставил со мной одного матроса и ушел. Вернулся только к полуночи, принесла хозяйка самовар, только заметил я, что глаза у нее красные, заплаканные. Хотел было спросить ее, в чем дело, да исчезла она. Положились мы спать, крепко я уснул, греха таить не буду, выпили мы немного за чаем. Проснулся я будто от толчка, глянул, а комиссара моего нет. Вышел я в сенцы, а хозяйка мне навстречу, причитает, слезами заливается, едва я ее водой отпоил. И рассказала она мне, что ночью этой комиссар почти всех стариков, станичного атамана, учителя, священника, всех переарестовал и повели матросы их на станцию через заросшие красноталом пески, с версту там идти надо. Зашел он ко мне, дождался, пока усну, и сам туда же. А хозяйка наша всю ночь не спала, через занавески, огня не зажигая, за всем наблюдала. Выскочила она вслед за комиссаром во двор и видит: бежит соседка ее, как сумасшедшая, мимо, увидала ее, и только и успела крикнуть: «Всех, как есть, в талах показнили!».
И исчезла. А комиссар на станцию поскакал, на телеграф. Телеграфист же, наш казак, когда расселись на станции матросы и стали там водку пить, вышел потихоньку из будки своей и смылся в станицу. И по дороге в краснотале на убитых стариков наскочил. Постреляли их, штыками покололи, шашками порубили. С учителем и священником тридцать трое их там лежало. Не успела мне хозяйка всё рассказать, вот тебе и телеграфист, мой он старый знакомый, вскакивает в курень и прямо мне:
- Уходи, Савелий Степаныч, сычас воротятся, они и тебя первого убьют, телеграмма с Царицына пришла, што контрик ты.
Выскочил я во двор, дала мне хозяйка маштачка, а темно еще вовсе было, телеграфист же за мной, тоже верьхи, увязался, и сказал он мне, что следующей ночью пойдут матросы на Писарев, и список у них есть, кого брать будут. Атамана, стариков видных, вот Сергея Алексеевича, и всех их расстрелять им велено. А всё потому, что поднялись на Низу казачьи станицы, первой Суворовская, а за ней остальные. И будто генерал Попов из калмыцких степей на Черкасск пошел. Поднялся наш Дон-батюшка. Вот и успел я в Писареве всех перед рассветом взбулгачить.
Встав из-за стола, моргнув многозначительно Семену, вышел из комнаты Виталий со своими братьями. Придвинула мама Семену вареников, взял он один, прожевал, сказал коротко: «Я сейчас», и тоже вышел во двор. Куда же это заехали они? Никогда он тут не бывал. В глубокой котловине, весь заросший вербами и ракитами, раскинулся вокруг небольшого пруда маленький хуторок. Кажется, Дубки называется. Видно, средней руки помещик живет. Ничего отсюда не видно, хуторок, будто в колдобинке, спрятался, снаружи, со степи, и не увидать его, пока вовсе близко не подъедешь.
Валерий тянет Семена за рукав и отводит за сарай:
- Слушай сюда: побили красные вчера стариков в станице, а что они сегодня в Писареве натворят, неизвестно. Но недолго им царствовать, слыхал, по всему Дону восстание. И нам теперь ушами хлопать нечего...
Из дома выходят дядя Воля и Савелий Степанович. Шагнув к племяннику, крестит его дядя, Савелий Степанович жмет ему руку и почти хором говорят они ему:
- А мы на Разуваев. Бабушку надо там устроить. Может быть, на Арчаду ее повезем. Туда и вы приедете. Ну, бывай здоров...
Вывели коней, махнули в сёдла, пустили с места карьером, и, глянь - только были на бугре, и нет их больше.
Старушка-хозяйка вышла с князем на крыльцо. Глядит она на нового своего знакомого и шепчет побледневшими губами:
- Да как же это так... да что же это такое?.. Россия наша, матушка Русь православная... и... и... это же невозможно...
Морщится князь Югушев:
- Русь православная, говорите? Подождите - новый Пугачев пришел, с прогрессивными идеями, университетским образованием и интернациональной выучкой. Сорвет он ее, матушку-Русь, с нарезов, да так, что всем нам небо с овчинку покажется... так, кажется, казаки ваши говорят?
А с бугра кричат:
- Господин атаман! Хтой-тось по стипе охлюпкой кроить! И вот он - кубарем скатывается с кручи, спрыгивает с замыленного конишки. Вихрастый, в одной рубахе и старых, видно, отцовских шароварах, Васька, соседов сын, четырнадцатилетний казачонок. Знает его Семен хорошо, вместе они Христа славили. Бросив коня посередине двора, подбежав к атаману, волнуясь, докладывает:
- Явланпий Сидорыч, господин атаман! Не успели вы уехать, часу времени не прошло, заявилась энта красная гвардия в хутор. Никто не спал, а я на мельницу, на подловке схоронилси. Оттуда всё, как есть, видал, рассвело уже. И подняли они стряльбу, и пошли от куреня к куреню, а было их человек с пятьдесят, на подводах прискакали, всё пяхота да матросы. Враз они по всяму хутору рассыпались и, куда в двор не забягуть - нигде никого с казаков нету. Ох, и остярвилси же энтот комиссар ихний, кинулси вот к Семенову дяде в курень. А он с теткой на порог вышел. Как заореть комиссар:
- Взять их, контрреволюцию!
А тетка ихняя как ухватить энтот топор свой, да как станить посперед дяди, да как замахнеть тем топором, да как зашумить:
- А хто ты есть, прохвост, а? Тоже, поди, разбойник, с Сибири сбежавший. А ну, подойди, подойди, я тибе охряшшу.
Тут один с матросов в нее с винтовки вдарил. Будто хто ее сзаду наземь рванул - так навзничь и повалилась. А Семенов дядя в мент один ухватил тот топор, да как шибанеть яво и прямо тому комиссару в голову. Упал тот, захрипел, кровишша из няво потекла. Красные гвардейцы и матросы тут на дядю кинулись, со сходцев и яво, и тетку мертвую стянули, штыками их кололи, стряляли в них, ногами топтали, чаво тольки не делали и посля того на воротах их повесили. Мертвых. Так и висять там. А потом, как зашли в курени ихние, как зачали добро на улицу ташшить и в окошки выкидывать, как зачали там хозяйскую водку пить, с ледника, с погреба всё, как есть, волокуть, в курей-утей с винтовок бьють.
И тут привяли к ним двух оставшихся в хуторе стариков - слепого Кондрата и деда Афанасия, энтого, што ишо с турецкой войне без ноги пришел. Привяли их, постановили к анбару и залпом в них вдарили. Так они там и ляжать.
И тогда пошли все в курени Поповых, в обоих расселись и обратно зачали водку пить и гармошка у них заиграла.
Слез я с подловки с мельнишной, ухватил нашего карего на базу, да речкой, речкой... и ушел. Тольки того и слыхал, как в куренях бабы кричать, матросы за ними гоняются, тянуть их кудысь, кофты-юбки с них рвуть…
____________________
Часть IV
Быстро бегут угольные горки, проплывают, как привидения, и тонут, растворяются в надвигающемся сумраке.
Капища, молельни, мечети, пагоды, храмы. Сколько построили их люди и сколько сами же разрушили? Скольким служили они для молитв и проповедей о любви, и скольким для призывов о мести и ненависти?
Инквизиция, крестовые походы, уничтожение иноверцев в Сибири, преследования староверов, гугеноты...
Но вот они - пришли новые преобразователи. С винтовками. И объявили религию опиумом для народа, и уничтожили тысячи храмов и перебили десятки тысяч священников. И разрушили их дико, по-изуверски, сожгли и опоганили.
И глядят на них, разрушителей и убийц, такие же, как и они, двуногие, со всех концов мира. И выжидают: чья возьмет. И заводят с ними и торговлю, и дружбу, решив, что правильно сказал один из представителей культурного Запада: торговать можно и с каннибалами.
И с тех пор объявлено дело людей с винтовками светлой дорогой в будущее, прогрессом, реальностью, с которой обязательно надо считаться. Реальностью новых законов, объявивших войну дворцам и разрушивших, спаливших десятки тысяч хижин.
Чьих же хижин?
Да наших, казачьих.
Никто в мире за них не заступился. Никто не ужаснулся страшному насилию, страшной, кровавой неправде. Никто. Ведь это же, - сказали в культурном мире, - революция. Это же, безусловно, прогресс, в начале своем так похожий на землетрясение, на геологический сдвиг. Это же впервые приобретенное право вчерашнего раба, вдруг взбесившегося на воле и пошедшего крушить всё, что только ему под руку подвернулось. Это же законное его стремление к светлой для него цели: в первый раз за сотни лет нажраться доотвала и, залив глаза спиртом, уничтожить всё, что становится ему на хамском пути его.
Но не сам выбрал он эту дорогу. Его вели. Вели не к аракчеевщине, не к барщине, не в новое крепостное право, а в рабство особое, новое, выдуманное не какими-то средневековыми князьями и боярами, не царями и их опричниками, а учителями из числа бездушных теоретиков, слепых начетчиков, ненавидящих и обозленных, наконец-то, дорвавшихся до топора обиженных полуинтеллигентов.
И сгорели степные курени и церкви казачьи. Поднялся, заклубился дым от пожарищ, но ни до неба, ни до сознания людей не дошел...